Мировоззрение о. Александра Шмемана

В предыдущей главе мы отметили, что в учении протоиерея Александра Шмемана идеи и термины имеют лишь инструментальное, а не идеальное значение. Наряду с этим, о. Ш. набрасывает на свое учение еще и флер неопределенности.
Отрицая, как мы видели выше, то, что у Церкви есть определение Церкви, о. Ш. отвергает не какое-то конкретное определение, а все определения вместе. И это необходимо следует из софистического характера «мудрости» о. Ш.
На возможности и необходимости давать определения стоит все, что мы знаем под именем богословия, философии, науки и культуры. Первым, как известно, начал давать определения Сократ, поскольку искал вечное и неизменное в каждой вещи – ее суть бытия.
Но это еще не все. Сократ пришел к определениям, поскольку искал Благо Само по Себе, то есть Бога. Таким образом, возможность давать определения неотделимо связана с различением добра от зла, а добра самого по себе – от добра в каком-то отношении. Аристотель в «Метафизике» сообщает, что «Сократ исследовал нравственные добродетели и первый пытался давать их общие определения» (Аристотель 1975, 327). Он продолжает: «Сократ с полным основанием искал суть вещи, так как он стремился делать умозаключения, а начало для умозаключения – это суть вещи… Две вещи можно по справедливости приписывать Сократу – доказательства через наведение и общие определения: и то и другое касается начала знания» (Аристотель 1975, 327–328).
Традиция определений, которую продолжает христианское богословие Отцов и Соборов, имеет и другой источник: это Священное Писание, где содержатся все догматы, где мы встречаем Богооткровенные определения, как тогда, когда Господь отвечает на вопрос Моисея: «И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что сказать мне им? Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам» (Исх. 3:13–14).
В Новое время и та, и другая традиция определений прерывается, и начинается последовательная борьба против определений сущности вещей, которые объявляются «схоластикой».
В системе воззрений о. Ш. неопределенность понятий и выражений непосредственно связана с холизмом как культом «полноты». Холизм как метод познания предполагает превосхождение всех границ и абсолютную свободу, то есть в том числе свободу от любого порядка. В самом деле, намерение говорить только о полноте и от имени полноты – это сверхчеловеческая претензия. Не по благодати и Откровению, а именно своими сверхчеловеческими силами о. Ш. осваивает бытийный универсум.
Как и положено софисту, о. Ш. не страшится никаких противоречий в своих речах. Он атакует здравое богословское и философское учение сразу со всех сторон, хотя бы его упреки и были несовместимы друг с другом.
Так, с одной стороны, он жалуется на неадекватность слов, на разрыв между Таинствами и их пониманием: «Хотя Крещение было принято и практиковалось всегда и всюду как самоочевидное начало и основание христианской жизни, различия в объяснении и толковании этого фундаментального акта появились в Церкви сравнительно рано. Впечатление такое, что богословы испытывали затруднения в „согласном разумении“ разных сторон этого акта из-за неадекватности человеческих слов и понятий Таинству Крещения во всей его полноте. Таким образом, появилось некоторое расхождение между самим Крещением – богослужением, текстами, обрядами и символами, с одной стороны, и различными богословскими объяснениями и определениями Крещения, с другой стороны, между действием и его толкованием, Таинством и его пониманием» (Шмеман 2001, 64).
С другой стороны, сам о. Ш. отрицает общепринятые и определенные богословские термины и всюду ставит взамен свои, неопределенные. В общем плане можно сказать, что это довольно неожиданный способ избежать разрыва между действием и его толкованием, Таинством и его пониманием. А необычный способ приводит к необычным результатам.
Например, о. Ш. дает определение вере: это «стремление, тяга, ожидание чего-то желанного, предчувствие чего-то иного, для чего только и стоит жить» (Шмеман 1989, 16). Почему «чего-то», а не чего-либо конкретного?
В данном случае могла бы быть случайная оговорка, но нет. «Что-то» проходит у о. Ш. красной нитью: «Что-то совсем другое, совсем непохожее на нашу обычную жизнь, а вместе с тем к нам обращенное всем своим светом, всей своей радостью. Так вот, вера – это прежде всего именно прорыв в иное, о чем так трудно поведать обыденными словами, но что наполняет все сердце, всю жизнь неожиданной праздничной радостью» (Шмеман 1989, 110).
Как мы видим, о. Ш. отчасти винит в этой неопределенности «обыденные слова», хотя, собственно, от него никто и не требует, чтобы он говорил о вере обыденными словами. С другой стороны, такая неопределенность для о. Ш. и есть норма Богопознания, туман, который развеивать ни в коем случае не рекомендуется.
Вот еще «что-то», «чего-то» и «куда-то»: «Если открылось нам священное в виде будь то красоты, будь то нравственного совершенства, будь то глубинной интуиции в сущность мира и жизни – открытие это немедленно чего-то требует от нас, что-то совершает в нас, куда-то нас зовет, обязывает, влечет» (Шмеман 2003b, 19). Эти невнятности у о. Ш. в дальнейшем никак не проясняются. Скорее напротив, поскольку за этим «что-то», «чего-то» и «куда-то» сразу следует уже приведенный нами пассаж из любовного стихотворения А. С. Пушкина, в котором и «Божество», и «вдохновенье» употребляются явно в светском мистическом смысле.
Бог также именуется у о. Ш. «чем-то»: «В мире человек чувствовал присутствие, действие, откровение чего-то, что к одному внешнему свести нельзя. И вот это что-то он и назвал в какой-то момент своего развития Божеством, Богом» (Шмеман 1989, 30).
С пришествием Христа «что-то» радикально изменилось: «Когда Павел, поверивший во Христа, после долгого гонения Его последователей, вдруг восклицает: „Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение!“ (Фил. 1:21), мы можем сказать, что что-то радикально переменилось в мире» (Шмеман 2003b, 88).
Данный прием для внедрения неопределенности в ясное учение и в ясные слова и понятия мы предлагаем назвать «аппроксимацией». Этот прием играет необычайно важную роль в патологической идеологической речи, поскольку до поры до времени позволяет избежать разоблачения в неправоверии и при этом все-таки донести свое лжеучение до «знающих», до адептов, работающих на той же оккультной «волне», что и лжеучитель.
Более того, с помощью такого приема софист оставляет читателя в ложном убеждении, будто ему предоставлена свобода выбора, свобода истолкования.
Похожую роль у о. Ш. играют кавычки, на злоупотребление которыми мы указывали на протяжении всей работы. В кавычках у о. Ш. стоят такие слова, как жизнь «во Христе»; Крещение начинает «действовать» в нас; мы не можем оставаться «на небе»; ничего «сверхъестественного» нет; «наследие» не есть то единственное, что надлежит хранить; мир – «средство» приобщения; категории – «литургические», а семья – «естественная».
«Мир иной» неизменно ставится о. Ш. в кавычки, а также «последние времена», «мир грядущий», «бессмертие души», «христианский мир», «благой» мир, просто «мир» (« „мир“ становится понятием и опытом, соотнесенным с Царством Божиим»), «сверхъестественное», «Таинство исцеления».
Закавыченные термины соединяются в предложения: « „Спасение“ есть не восстановление порядка, нарушенного грехом, а простое избавление, будь-то от страдания, греха или смерти, признаваемых „нормальными“ для профанного мира, ему присущими» (Шмеман 2003a, 168). Или так: «Если преложение Святых Даров совершается всем священнодействием, всей Божественной Литургией, то являет, „показывает“, „дарует“ его нам Дух Святой» (Шмеман 1983, 38).
В сочинениях о. Ш. в кавычках стоят, казалось бы, ясные и точные термины богословия и философии. В область аппроксимации затягиваются самые определенные понятия: «догмат», «духовная власть», «священное», «святое», «священное место», «Откровение», «душа», «подчинение».
И это не только насмешка над читателем, а своеобразный романтический «гумор», знаменующий собой принципиальную фрагментарность наших знаний, и – как следствие – разомкнутость человека в большой Таинственный мир.
В том, как о. Ш. употребляет прием аппроксимации, наблюдается строгая последовательность. Он подчеркивает, что познавать можно только посюсторонний монолит бытия. Отсюда его кавычки подвергают аппроксимации именно те понятия, которые отсылают к духовной жизни, к сверхъестественному и священному.
Определенные догматические термины ставятся в кавычки также для того, чтобы отсечь возможности критического рассмотрения учения о. Ш. Понятно ведь, что, в отличие от догмата, «догмат» в кавычках не может служить критерием холистической мистики о. Ш., а это только и нужно о. Ш., все время стремящемуся отправиться в свободное адогматическое плавание. Но и критиковать его за ложно понятый «догмат» не представляется возможным, поскольку не удается установить, что это такое.
Укажем на некоторые параллели к тому, что делает о. Ш., обратившись для начала к нашей работе 2000 г. «Без догмата. О взглядах о. Георгия Кочеткова в их связи с масонской идеологией» (Вершилло 2013).
В той статье отмечалось, что один из последователей о. Ш., о. Георгий Кочетков, также необычно часто употребляет кавычки. В кавычках у о. Кочеткова поставлены: «ипостась», «на веру», «на месте», «церковный реализм», «нормальная» структура, «форма», «содержание», «формула», «внешнее», «членство», «обговаривание», «эзотерический», «лицо», «персона», «восполнение». Спросим себя, что собственно значит «внешнее», если оно стоит в кавычках? Но ведь у о. Кочеткова «внешнее» еще и соотносится с закавыченным «внутренним».
О.Г. Кочетков пишет об «иерархическом» устройстве Церкви, а не о иерархическом. Крещение для него не первое, а «первое» церковное Таинство. Мало того, мы обнаруживаем у о. Кочеткова не тайную, а «тайную» жизнь, и даже само слово «тайна» помещено у него в кавычках.
В этом мы видим яркое проявление адогматического характера писаний о. Кочеткова. Он показывает, что понимать слово (например, «восполнение») следует не совсем понятно как. Он хочет сказать, что этого объяснить никому нельзя: надо решать личностно, творчески и изнутри потока бытия.
Этим же приемом «аппроксимации» грешил соратник о. Ш. о. Иоанн Мейендорф в своей диссертации «Жизнь и труды святителя Григория Паламы. Введение в изучение». У него точные богословские термины: сущность, ипостась, энергия (благодать) в некоторых случаях заключены в кавычки, что делает совершенно невозможным установление их смысла. Выражает ли этим автор сомнение, или указывает на какое-то иносказательное значение, или это мнимые сущность, ипостась, энергия? Едва ли. Вернее допустить, что о. Мейендорф, как и о. Кочетков, указывает на невозможность точного соответствия между термином и самим существом дела. А это уже совершенно определенная, хотя и адогматическая позиция.
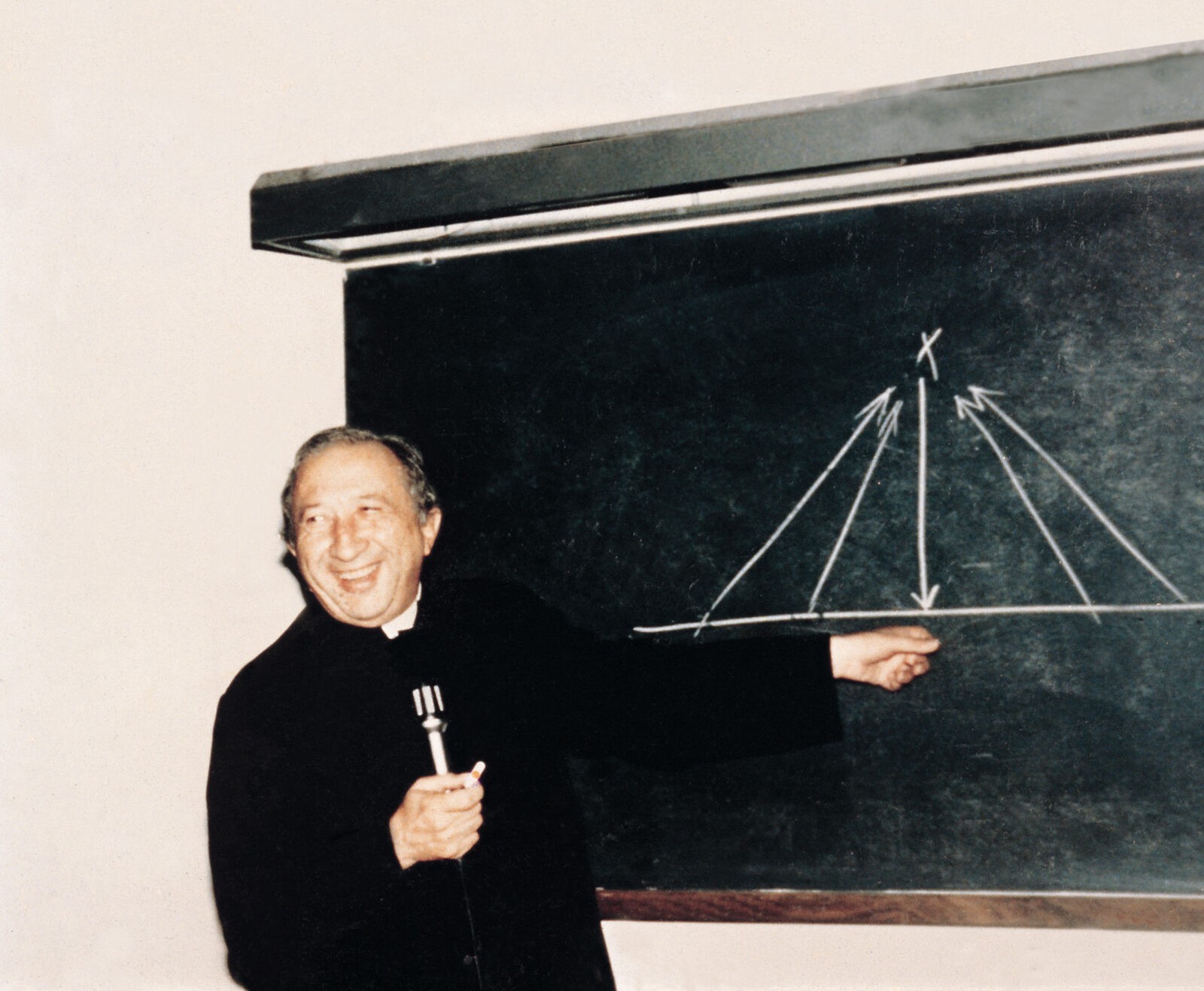
Та же самая расплывчатость и с теми же мотивировками составляет основной признак таких представителей массовой религии, как папа Иоанн-Павел II, брат Роже Шютц, мать Тереза, Мартин Лютер Кинг и др. В качестве достаточно близкой параллели к неопределенному учению о. Ш. можно указать и на деятельность его современника – католического активиста Луиджи Джуссани (1922–2005), основателя модернистского движения Comunione e Liberazione.
В полезном, хотя и апологетическом по отношению к Джуссани сочинении Роберта Ди Педе теоретически и практически рассматриваются приемы неопределенности в учении Джуссани (Di Pede 2010).
Ди Педе указывает на принципиальные затруднения в понимании текстов Джуссани: они написаны настолько неясно, что читатель на свой страх и риск должен наделять их содержанием. Более того, на такую реакцию слушателей Джуссани и рассчитывал, полагая своей задачей не сообщить внятное учение, а подтолкнуть своих последователей к самостоятельному осознанию «чего-то». С помощью обыденного говорения Джуссани, как и другие мэтры «евродуховности», приводит своих слушателей к крайне невнятным и одновременно общепонятным выводам. Он как бы пробуждает в слушателях ответ как реакцию на невнятность, открытую загадочность того, что он говорит.
Ди Педе отмечает, что эта задача оказывается невыполненной и невыполнимой. В «Школах понимания», организованных движением Джуссани, учатся обычные люди, которые хотят всего лишь понять, что хотел сказать Джуссани, а именно это и оканчивается неудачей. Неопределенность рождает не взаимопонимание, а ту же самую неопределенность, а точнее безразличную понятность (eine indifferente Verständlichkeit. – термин М. Хайдеггера).
Ди Педе, который сам принимал участие в «школах понимания», говорит о неожиданном результате: «Поразительно, но попытки прояснить на занятиях мысль Джуссани воспроизводят те же недостатки, которые мы находим в этих самых текстах, изложенных необычайно отвлеченно и теоретически, что подрывает и практический смысл таких собраний для разбора текстов Джуссани» (Di Pede 2010, 21).
При толковании сочинений Луиджи Джуссани читателям приходится преодолевать ненужные препятствия, намеренно созданные автором. Ди Педе перечисляет эти преграды для понимания: необычные термины, эзотерический язык, внутренние противоречия, неопределенность, пространность.
Ди Педе определяет основную болезнь текстов Джуссани как «расплывчатость» (vagueness) и предлагает несколько возможных объяснений причин этой болезни. Нам будет полезно их перечислить:
1) Боязнь выступить против иерархии, то есть уход от преследования. Расплывчатость возникает как попытка сохранить свой статус правоверного католика, в то же время неортодоксально отвечая на актуальные вопросы церковной жизни. Джуссани был воспитан в традициях католического модернизма и в то же время находился под прессом анафемы на модернизм, наложенной папой Пием X. Итак, текст Джуссани имеет двух разных адресатов: церковную власть и своих адептов, расплывчатость же становится способом обратиться одновременно и к тем и другим.
2) Метанарратив (термин постмодерниста Ж. Ф. Лиотара) порождает расплывчатость, поскольку хочет дать окончательный ответ на универсальную проблему для неопределенной аудитории. Получается, что ответы даются вне исторического, культурного и языкового контекста.
3) Противоречие на уровне метода. Расплывчатость возникает от того, что два противоположных метода используются одновременно для анализа одной и той же проблемы.
4) Философский дилетантизм порождает расплывчатость, поскольку стремится рассуждать о давно решенных и ясных метафизических (и богословских) проблемах с помощью обыденного языка, как бы заново сочиняя терминологию вместо общепринятой. Общепринятая же терминология – богословская и философская – отвергается как схоластическая, как слишком узко техническая, не отвечающая на простые запросы неподготовленных читателей. Симптомами в данном случае будут лакуны в изложении, поверхностность, выражение согласия с противоречащими друг другу авторами или направлениями мысли, считает Ди Педе.
5) Прагматическая польза от расплывчатости, поскольку расплывчатость позволяет упростить переход от постановки проблемы к ее решению. В таком случае расплывчатость является орудием манипулятора, который заранее знает ответ, к которому он хочет подвести слушателей, и лишь симулирует самостоятельное обнаружение истины самими слушателями (Di Pede 2010, 24–25).
Нетрудно заметить, что все сказанное Ди Педе непосредственно относится к сочинениям о. Ш., причем, как и в случае с Джуссани, эти объяснения вполне совместимы друг с другом, по крайней мере на уровне целей, если не обязательно в одном конкретном тексте. На протяжении работы мы отмечали эти мотивы и ту неясность, которую они создают в учении о. Ш. и в его восприятии читателями.
Во-первых, атмосфера абсурда возникает от того, что о. Ш. проповедует атеистический монизм, вербует своих сторонников, одновременно не желая быть разоблаченным. Различие с Джуссани состоит только в том, что о. Ш. мог не опасаться санкций со стороны послушной иерархии Американской Митрополии, а затем Американской автокефальной церкви. Его второй адресат, перед которым наш автор не желал бы быть полностью разоблачен, – это простые верующие прихожане, а отчасти и «карловчане», то есть богословы и публицисты Русской Зарубежной Церкви.
Во-вторых, мы видели всю антиисторичность теорий о. Ш., ненаучность его методов, отвлеченность его выводов. Все вместе это позволяет о. Ш., как он полагает, обращаться к любой аудитории за границей и в СССР, к богословам и простым мирянам, ко всем векам и народам сразу и никому в отдельности.
В-третьих, о. Ш. дополняет свое холистическое познание целого через целое такими несовместимыми с холизмом методами, как опытное Богопознание, библейская критика и т. д.
В-четвертых, о. Ш. стремится как бы заново увидеть все Православие в целом, сочиняя новые термины и новые подходы к давно решенным проблемам. Отсюда его массированное использование обыденного языка, совершенно неадекватного задачам богословия. Общепринятую терминологию и методы рассмотрения проблем о. Ш. отвергает как схоластические, не отвечающие на простые и практические запросы. Он систематически опирается на противоречащие друг другу воззрения просто потому, что не может отличить различные идеи одну от другой: во тьме обыденного языка и сознания все идеи оказываются на одно лицо.
Наконец, о. Ш. сам ничего не познает и ничего не открывает. Для него все в Православии ясно с самого начала, с Парижского богословского института и деятелей «литургического обновления». О. Ш. знает, что может опереться на материализм, сциентизм и прагматизм своих слушателей, и поэтому избавляет себя от необходимости строго следовать последовательности изложения материала. О. Ш. изначально знает, к какому выводу ведет своих читателей, перескакивая при этом через несколько ступенек. Более того, он стремится опереться на «общечеловеческое сознание» своих слушателей, а на самом деле массовое гностическое мировоззрение, обоснованное чисто идеологически.
О. Ш. отличает от других представителей «евродуховности» только более сознательный, рефлексивный характер его расплывчатости. У него, с одной стороны, есть как бы метафизические основания для того, чтобы выражаться невнятно. С другой стороны, его метафизика атеистического монизма сама страдает всеми указанными выше пороками.
При всех вариациях на тему веры у о. Ш. остается неизменным только мотив «полноты»: «Вера есть ответное движение не души одной, а всего человека, всего его существа – вдруг что-то услышавшего, вдруг что-то узревшего и отдающего себя этому движению» (Шмеман 1989, 19).
В отличие от Христа, о. Ш. не считает, что видеть следует глазами, а слышать ушами. В отличие от апостола, о. Ш. не думает, что вера происходит от слышания, и от слышания определенного учения. О нет! В холизме человек слышит и видит только всем существом, и слышит и видит «что-то» расплывчатое.
Вера понимается о. Ш. как экзистенциалистское «ожидание» и как персоналистская «встреча»: «Вера есть – встреча, реальная встреча чего-то самого глубокого в человеке, некоего присущего ему ожидания с тем, на что это ожидание направлено, даже если и не знает этого человек» (Шмеман 1989, 17).
Несмотря на (возможно) известный о. Ш. рассказ Евангелия от Луки (Лк. 1:26–38), он не может сказать ничего определенного о Благовещении: как, когда и каким образом оно произошло. Казалось бы, почему? Потому что это вообще не событие в обычном смысле слова, объясняет о. Ш.: «Неприменимы к этому таинственному рассказу наши обычные категории – как, когда, каким образом, – как неприменимы они и к торжественному утверждению Библии: „В начале сотворил Бог небо и землю“ (Быт. 1:1). Ибо и речь идет тут не о событиях в нашем понимании этого слова, а о событии духовного порядка, об откровении душе и сердцу» (Шмеман 2003b, 41). Из изложения о. Ш. мы даже не можем выяснить: совершилось ли на самом деле Благовещение в прямом и единственно возможном смысле слова «событие».
О. Ш. объясняет, что он не знает, что такое ангел, и по этой веской причине не может рассказать о Благовещении «на нашем языке». О. Ш. говорит: «Я не знаю, что такое ангел, я не могу на вашем языке объяснить, что произошло почти две тысячи лет назад в маленьком галилейском городе и о чем повествует Евангелие от Луки. Я думаю, что рассказ этот человечество никогда не забывало, что эти несколько строк воплотились в бесчисленном количестве картин, поэм, молитв, что они продолжали и продолжают вдохновлять. А это значит, конечно, что люди услышали в них что-то бесконечно важное для себя, какую-то правду, которую, по всей вероятности, иначе, как на этом детском, радостном языке выразить нельзя» (Шмеман 1989, 232).
В общем, для о. Ш. рассказ о Благовещении (именно рассказ, а не само событие) – это нечто, и нечто существенно важное для человека. Отметим, насколько эта мысль невнятна, насколько невнятно она выражена и насколько она далека от тона повествования в Евангелии.
О. Ш. не знает о догматах, о событиях Ветхозаветной и Новозаветной истории. Он не знает, и знать ему неинтересно. Ему, как мы видели выше, безразлично, когда придет Христос: через 1000 лет или завтра: «Пусть сейчас придет или через два миллиона лет – все равно» (Шмеман 2003b, 201).
Точно так же о. Ш. все равно, когда, где и как было Успение Богородицы: «Мы ничего не знаем об обстоятельствах смерти Марии, матери Иисуса Христа. От раннего Христианства дошли до нас разные рассказы о ней, разукрашенные как бы детской любовью и нежностью. Но именно потому, что рассказы эти разные, нам нет нужды отстаивать „историчность“ ни одного из них. В день Успения память и любовь Церкви направлена не на эту фактическую, историческую обстановку, не на дату и не на место, где закончилась земная жизнь этой матери всех матерей, этой единственной женщины. А на то, что составляет сущность и смысл этой смерти, где бы и когда бы она ни наступила» (Шмеман 1989, 252).
О. Ш. не знает, откуда в мире грех, а все объяснения, в том числе из Писания и Предания, он по не указанной им причине считает неудачными и неубедительными: «Так или иначе, откуда же это зло? Если есть Бог, почему же в мире все время торжествует зло и торжествуют злые? И почему присутствие сил зла настолько очевиднее присутствия силы Божией? Если есть Бог, как Он допускает все это? И если, скажем, спасет меня Бог, то почему же Он не спасет всех тех, кто так очевидно страдает и гибнет кругом? Скажем сразу, что вопросы эти не могут получить легкого ответа. Или еще ясней – на них вообще нет ответа, если под ответом разуметь рациональное, разумное, так называемое „объективное“ объяснение. Все попытки так называемой „теодицеи“, то есть рационального объяснения существования в мире зла при наличии всемогущего Бога, были неудачными и неубедительными, против этих объяснений сохраняет всю свою силу знаменитый ответ Ивана Карамазова у Достоевского: „Если будущее счастье построено на слезинке хотя бы одного ребенка, я почтительнейше возвращаю билет на такое счастье“» (Шмеман 2003b, 33).
О мире падших духов у Церкви якобы нет точных ответов, а только символы: «Должен существовать личностный мир тех, кто выбрал ненависть к Богу, к свету, кто выбрал быть против. Кто эти личности? Когда, как и почему выбрали они путь против Бога? На эти вопросы Церковь не дает точных ответов. Чем глубже реальность, тем труднее она представима с помощью формул и утверждений. И поэтому ответ прячется в символах и образах, говорящих о восстании против Бога в сотворенном Им духовном мире части ангелов, обуянных гордыней. При этом источник зла заключается не в их неведении и несовершенстве, а, напротив, в их знаниях и совершенстве, которые сделали возможным искушение гордыней» (Шмеман 2001, 24).
Как мы видим, о. Ш. приписывает Церкви незнание истины, а бесам – знание, каковая мысль прямо происходит от иррационализма Ф. М. Достоевского, кстати, также считавшего неопровержимыми софизмы Ивана Карамазова из книги 5-й романа «Братья Карамазовы» Pro et contra: «Мой герой берет тему, по-моему, неотразимую: бессмыслицу страдания детей и выводит из нее абсурд всей исторической действительности» (Достоевский 1988, 63).
Даже когда Писание сообщает точные сведения: где, кто, когда, о. Ш. это отрицает без всяких объяснений. Ветхий Завет для него и подавно является сказкой, а в лучшем случае – детским лепетом, которого он призывает не стыдиться: « „Будьте как дети“, – говорит Христос, и еще: „Не мешайте детям приходить ко мне“ (Мф. 19:14). И если так сказано, то нам, верующим, незачем стыдиться несомненной детскости, присущей и самой религии, и всякому религиозному опыту» (Шмеман 2003b, 131). При этом о. Ш. совершенно твердо воспринимает эту детскость не как искренность и доверие слову Христа, а как своего рода слабоумие, вопреки слову апостола: «Не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни» (1 Кор. 14:20).
О сотворении мира Писание говорит у о. Ш. «детскими фразами»: «Многим все это кажется сказками как раз потому, что самое главное – в вере: самоочевидный для нее факт Божественного Откровения, Божественной инициативы, записанный в этих детских фразах – „и сказал Бог“, – уже давно никто не разъясняет людям» (Шмеман 1989, 26). Такой довод возможен только в полном отрыве от самого текста первой главы Бытия, в котором нет ничего «детского».
Об Аврааме мы также не знаем из Писания ничего определенного, утверждает о. Ш.: «Мы никогда не узнаем точно, что произошло в тот день, когда принял Авраам свое судьбоносное решение, „поверил Богу“, бросил все и ушел в страну далече и начал этим событием совсем новый ряд событий, приведших ко Христу» (Шмеман 1989, 32). И это говорится несмотря на то, что Священное Писание содержит весьма подробный рассказ об этом событии, и даже содержит его истолкование апостолом (см. Быт. 15; Евр. 11:8–9).
Псалом 138-й удостаивается именования «детским» и косноязычным: «Псалом 138, молитва, написанная несколько тысяч лет тому назад. Но вот я читаю ее и удивляюсь: Господи, да ведь это все как раз так, как я чувствую и переживаю, это мой опыт, это обо мне и от меня сказано, и даже эти детские слова, это косноязычие, пытающееся выразить, „выпеть“ то, что выше слов, – все это мое» (Шмеман 1989, 22).
Непредвзятый читатель ни за что не обнаружит в этом псалме ничего детского или невнятного, и самое главное – намерения «выпеть» то, что выше слов. Напротив, Пророк говорит в этом псалме о знании, а не о незнании: «Господи, искусил мя eси и познал мя eси; ты познал eси седание мое и востание мое. Ты разумел eси помышлeния моя издалеча; стезю мою и уже мое ты eси изследовал и вся пути моя провидел eси» (Пс. 138:1–3). И это именно то познание от Бога, о котором говорит апостол (1 Кор. 13:12).
После этого совсем не удивительно, что в цитируемой нами воскресной беседе, о. Ш. редактирует 138-й псалом, исключая из него слова совсем не детские и ничуть не косноязычные: «Аще избиеши грешники, Боже; мужие кровей, уклонитеся от менe. Яко ревниви eсте в помышлениих, приимут в суету грады твоя. Не ненавидящыя ли тя, Господи, возненавидех, и о вразех твоих истаях? Совершенною ненавистию возненавидех я; во враги быша ми» (Пс. 138:19–22).
О Благовещении о. Ш. прямо говорит, что это «детские слова», «своего рода сказка» (Шмеман 2003b, 40–41). Разумеется, о. Ш. не говорит, что не верит в Благовещение. Он лишь умножает неясность на неясность. Благовещение для него – это мечта, выраженная на языке мечты: «Вы говорите, все то, что мечта, – неправда, потому что этого нет. Но на деле люди всегда жили, живут и будут жить мечтой, и все самое глубокое, самое нужное для себя выражать на языке мечты» (Шмеман 1989, 232).
Учение об Искуплении, выраженное в словах службы Великой Субботы, тоже «как бы сказка»: «На рыданье, на недоуменье, на отчаяние своей матери, всего мира, всего творения Христос отвечает, и этот ответ звучит в потрясающих песнопениях этого дня: „разве ты, разве вы не понимаете, – как бы говорит Христос. – Я имел двух друзей на земле: Адама и Еву. И я пришел к ним и не нашел их на земле, которую Я дал им. И, любя их, я спустился туда, где они, – в тьму и ужас и безнадежность смерти“. Да, все это выражено, все это сказано, все это поется на языке детей, в образах, символах, как бы сказке» (Шмеман 1989, 66).
Учение о загробном мире для о. Ш. – «детский лепет»: «Детским лепетом представляются мне самые умные философские рассуждения о загробном мире, вечности и так далее» (Шмеман 1989, 20). Когда же о. Ш. вдруг ненароком употребляет слово «преисподняя», то при этом оговаривается, что говорит «на языке примитивных символов» (Шмеман 1989, 77).
Поскольку Писание есть миф, то и читать его о. Ш. не считает для себя обязательным. О. Ш. всерьез пишет: «Таинственные Иосиф и Никодим, или эти женщины, идущие на рассвете ко гробу, – так мало места занимают в Евангелии» (Шмеман 1989, 197). Почему же мало? Едва ли намного меньше, нежели Матерь Божия или апостол Иоанн Богослов.
О. Ш. никогда не присутствовал на акафисте: «Это так называемый „акафист“, одна из наиболее любимых и распространенных служб православной Церкви. Тут ни просьб, ни страха, ни мольбы о помощи, и только чистое „радуйся“» (Шмеман 1989, 111). Достаточно открыть акафист Иисусу Сладчайшему, чтобы увидеть в первом кондаке: «От всяких мя бед свободи, зовуща: Иисусе Сыне Божий, помилуй мя».
Под рубрику неопределенности и аппроксимации подпадает и мнимое глубокомыслие, непрестанно встречающееся у о. Ш.: «Другие проповедники идут дальше – до Финикии, Кипра, Антиохии, можно думать, что тогда же – пришельцами из Иерусалима – была основана Церковь в Риме, но о всех этих миссионерах прямо говорится, что они никому не проповедывали кроме иудеев. И все же начало обращению „внешних“ положено, вопрос поставлен. Еврейская община или вселенская Церковь? Спасение Израиля или спасение мира?» (Шмеман 2003, 26).
В чем тут вопрос? А как же слова Христа, сказанные апостолам, или слова Христа апостолу Павлу: «Я пошлю тебя далеко к язычникам» (Деян. 22:21)? Разве это не достаточный и ясный ответ?
С помощью неопределенности о. Ш. преодолевает все учения и доктрины. Он пишет, например: «Реальность есть Царство Божие, провозглашение которого именно как реальности, а не как идеи или доктрины, является центральным моментом Евангелия, а лучше сказать, само есть Евангелие, и в то же время вечный горизонт, источник и содержание христианского опыта» (Шмеман 1996, 88).
Допустим, что реальность – это Царствие Божие. Допустим, что нужно провозглашение Царства реальностью, а не доктриной. Но что такое тогда это «провозглашение», если не сверхдоктрина, сверхидея или упомянутый выше «метанарратив»? Получается, что о. Ш., как идеолог, бытует в сверхреальности, в реальности второго порядка, откуда равнодушно взирает на все учения, в том числе и на христианское, как на частные случаи нерасчлененной сверхистины.
С этой сверхчеловеческой точки зрения для о. Ш. оказывается безразлично: является ли Христианство истиной или только сказкой. Он идет навстречу господствующему атеизму, отказываясь обосновывать истинность Христианства, в чем, собственно, и состоит модернизм как приспособление к богоборческим идеологиям.
Свои собственные утверждения о. Ш. также не доверяет никакой проверке, помещая их над истиной и ложью. С помощью расплывчатости о. Ш. демонстрирует всем «внешним», что он для них свой, поскольку ищет не вечную истину и даже не истину факта, а только вещает изнутри полноты жизни. После этого мы с полным основанием можем назвать о. Ш. нечестным, обманщиком, помня при этом, что его нечестность обоснована его холизмом.
О. Ш. многократно утверждает, что его слова – это не учение, не теория. Тем самым он сигнализирует, что его словам нельзя верить, притом в самом обыденном смысле. В самом деле, если бы его слова были истинными, то для чего бы ему делать такую оговорку, что это не теория, а опыт? Тогда они были бы верны как теория и подтверждались бы опытом.
Здесь надо указать, что лживостью, то есть непоследовательностью и неопределенностью, своего учения о. Ш. дорожит как единственным свидетельством того, что его учение живое. Более того, отнестись к его словам разумно значило бы «убить жизнь», а это, кажется, весьма предосудительно.
В борьбе за «живую жизнь» своей идеологии наш автор вооружается софистическими лозунгами, из которых два получили особенную известность: lex orandi lex est credendi и «Наше учение согласно с Евхаристиею, и Евхаристия в свою очередь подтверждает учение».
Для этих лозунгов о. Ш. характерны следующие свойства: во-первых, они обладают универсальной сверхобобщающей силой, во-вторых, они тавтологически замкнуты сами на себе, то есть объясняют и обосновывают сами себя. Наконец, эти лозунги, смотря по необходимости, служат для борьбы как против православного вероучения, так и против литургического предания. Эти лозунги – своего рода всеполнота, оборачивающаяся абсолютным вакуумом и при этом служащая универсальной отмычкой для незапертых дверей Истины.
Латинской фразе «Lex orandi lex est credendi» у о. Ш. приписывается неслыханный вес, легко перевешивающий авторитет любого православного изложения веры. Легко понять, почему эта фраза так важна для о. Ш. Данный лозунг сплющивает вероучение и богослужение, так что и богослов, и ученый-литургист одинаково вынуждены сдаться на милость победителя, то есть идеолога «литургического обновления». Лозунг также служит отсылкой к холизму, составляющему все содержание мировоззрения о. Ш. Он провозглашает: «Богословское сознание должно восстановить свою былую целостность, нарушенную веками западного плена, вернуться к старому, но верному выражению этой целостности: lex orandi lex est credendi» (Шмеман 1996, 166).
Однако это выражение заимствовано о. Ш. не из «древнего опыта Церкви», а из католического модернизма XIX в. Данная фраза, отмечает католический богослов Daniel G. Van Slyke, не является такой простой или такой древней, как обычно полагают. Предполагается, что выражение принадлежит основателю движения «литургического обновления» Просперу Геранже (1805–1875). Известно также сочинение католического модерниста Джорджа Тайрелла, где с помощью этого лозунга он «расправляется» с церковным Христианством (Tyrrell 1904; и продолжение: Tyrrell 1906). Кодовую фразу использует также и французское доминиканское издательство Cerf, выпускающее с 1925 г. серию Lex Orandi. В XXI в. радикальный православный модернист о. Андрей Дудченко избирает тот же лозунг для серии в своем издательстве «Пролог».
Фраза «Lex orandi lex credendi» может быть переведена как «закон молитвы – это закон веры». Она использовалась и используется в католическом модернизме в подтверждение той ложной мысли, что вероучение зависит от богослужения. После Второго Ватиканского собора эта же фраза послужила оправданием разрушительной литургической реформы в католицизме, поскольку ее легко понять и в противоположном смысле: богослужение должно соответствовать новой изменившейся вере.
Лозунг интересен тем, что в данном случае ложная мысль подтверждается фальсифицированным основанием. Так, о. Ш. утверждает, что «древняя Церковь (то есть католическая Церковь XIX–XX вв. – Р. В.) твердо исповедовала принцип: lex orandi lex est credendi. Поэтому наука о богослужении не может не быть наукой богословской по своему характеру и назначению, а богословие в целом не может обойтись без науки о богослужении» (Шмеман 2003a, 27). Почему «поэтому»? Потому, что так сказал Ив Конгар (1904–1995), как вполне серьезно сообщает о. Ш. в примечании к данному месту.
Однако выражение «Lex orandi lex credendi» не встречается ни у одного из Святых Отцов или церковных писателей. Во всяком случае, исследователи не обнаружили его следов в латинской Патрологии, то есть со II по XII в. (см. Van Slyke 2004).
В форме «ut legem credendi lex statuat supplicandi» эта фраза встречается в кратком анонимном сочинении V в., известном под названием «Indiculus de gratia Dei» (PL 51:201–202). Долгое время его приписывали папе Целестину I, а в настоящее время – Просперу Аквитанскому.
Таким образом, речь идет не о единодушном голосе Древней Церкви, как провозглашает о. Ш., а об одном документе относительно небольшого авторитета. Дело однако не только в этом. «Indiculus de gratia Dei» вообще толкует не о богослужении и не предписывает каких-либо методических правил относительно того, как соотносятся вера и молитва. Данный текст принадлежит эпохе антипелагианских споров и трактует о соотношении между благодатью и свободной волей.
Фраза «ut legem credendi lex statuat supplicandi» становится аргументом против пелагиан, поскольку Проспер Аквитанский (будем считать автором его) утверждает, что священнослужители молят об обращении ко Христу неверующих, и Бог в ответ на эти молитвы посылает благодать, которая обращает грешников к Нему. В этом, согласно Просперу, и состоит закон молитвы, взятый прямо из повеления апостола: «Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков» (1 Тим. 2:1). Вот так закон молитвы подтверждает конкретный закон веры, поскольку доказывает, что все благое в человеке происходит только от Бога, а не от человеческой воли.
Итак, мы видим, что данную фразу невозможно без насилия над смыслом истолковать, как некий сверхобобщающий герменевтический принцип применительно к богослужению и вероучению.
Несмотря на это, о. Ш. ни за что не готов отказаться от удобного для него девиза. Он сообщает, что lex orandi – это одновременно источник и объект исследования: «Богословие должно обратиться к lex orandi, увидеть в нем не только источник, но и объект своих поисков и исследований» (Шмеман 1996, 171). Хорошо ли, что закон молитвы является источником и в то же время предметом исследования, сказать трудно. Ясно только то, что о. Ш. видит в этом любезную ему тавтологию (см. выше в главе «Мистика полноты»).
Согласно о. Ш., учение Церкви укоренено в практике («вере-опыте»), а lex credendi раскрывается в ее жизни: «Церковь – не только человеческое установление, хранящее память о богооткровенных событиях прошлого, но и сама эпифания (явление) этих событий, как таковых. И она может учить о них именно потому, что знает их, потому что несет в себе опыт их реальности. ее вера как учение и богословие укоренены в ее вере-опыте, а ее lex credendi раскрывается в ее жизни» (Шмеман 1996, 158–160). Мы видим, насколько удобен этот лозунг для холистического утверждения единства теории и практики.
Когда о. Ш. говорит о «законе молитвы», это отнюдь не значит, что он намерен себя связывать историческими фактами или находить единообразие в богослужебной практике. О. Ш. как раз не считает, что полное единообразие в обрядах и молитвах есть обязательное условие единства Церкви. Больше того, Церковь, утверждает о. Ш., «не отожествляла своей lex orandi до конца ни с одним „историческим“ типом богослужения» (см. Шмеман 2003a, 30).
Но что же тогда исследует новая софистика о. Ш.? В чем ее закон и метод? Закон состоит исключительно в свободе говорить и делать, что угодно. То есть это вовсе не закон, а чистый произвол, который прекрасно вписывается в антиюридическую направленность полемики о. Ш.
О. Ш. говорит: «Конечной задачей остается именно теория церковного богослужения» (Шмеман 2003a, 31). Допустим, что это так, но возможна ли такая теория при отрицании единообразия в обряде? Нужна ли такая новая теория при наличии собственно богословия? Нужна, провозглашает наш автор: «Богословский синтез есть раскрытие закона молитвы, как закона веры, его богословская интерпретация» (Шмеман 2003a, 32), и этот грядущий «синтез» уже сейчас навязывается Церкви как закон.
Что конкретно это значит? То, что о. Ш. опирается на опыт, но опыт внеисторический, опыт своих фантазий, а точнее, не своих, а предшествующих деятелей движения «литургического обновления»: «Порядок Евхаристии, как бы он ни развивался и ни видоизменялся в истории, – изначально определен некоей основной структурой и именно она (shape по выражению G. Dix’а) и является исходной структурой для раскрытия смысла, как Евхаристии, так и ее развития» (Шмеман 2003a, 32).
Итак, порядок есть структура (что бы это ни значило). Но зачем нужно на основании сочиненной Диксом модели заново «раскрывать смысл Евхаристии»? А вот зачем: «Историческая литургика устанавливает структуры и их развитие, литургическое богословие – раскрывает их смысл: таков общий методологический принцип работы. Значение этих основных структур в том как раз и состоит, что только в них выражен полностью общий замысел богослужения, и в целом, и в отдельных его проявлениях. Они устанавливают „литургический коэффициент“ каждого отдельного элемента и указывают на его значение в целом, то есть дают богослужению связную богословскую интерпретацию и освобождают его от произвольных символических интерпретаций» (Шмеман 2003a, 32–33).
Обратим внимание на то, что на глазах у изумленного читателя совершается подлог: чин Евхаристии приравнивается к shape, который синтезировал Грегори Дикс в середине XX в. После чего о. Ш. начинает оперировать в своем тексте не чином Евхаристии, а этим фантомом.
О. Ш. имеет дерзость приписывать свои софистические приемы св. Иринею Лионскому, используя в качестве псевдологии слова Святого о том, что «наше учение согласно с Евхаристиею, и Евхаристия в свою очередь подтверждает учение» (Ириней Лионский св. 1996, 365). Однако св. Ириней, как и Проспер Аквитанский, не устанавливает в данном случае сверхобобщающий герменевтический принцип, а доказывает истинность конкретного догмата о истинном, а не мнимом Боговоплощении.
Св. Ириней опровергает одно из учений гностиков, которые почитали окружающий нас мир произведением недостатка, неведения и страсти: «Каким образом они говорят, что плоть подвергается тлению и не участвует в жизни, – плоть, которая питается от Тела и Крови Господа? Пусть они или переменят мнение свое или перестанут приносить названные (вещи). Наше же учение согласно с Евхаристиею, и Евхаристия в свою очередь подтверждает учение. Ибо мы приносим Ему то, что Его, последовательно возвещая общение и единство плоти и духа. Ибо как хлеб от земли, после призывания над ним Бога, не есть уже обыкновенный хлеб, но Евхаристия, состоящая из двух вещей, из земного и небесного; так и тела наши, принимая Евхаристию, не суть уже тленные, имея надежду воскресения» (Ириней Лионский св. 1996, 365).
Иными словами, Евхаристия подтверждает не нерасчлененный холистический lex credendi, а определенное догматическое положение. А это полностью меняет все дело.
Мало того. В отличие от софистов, св. Ириней и в данном случае, и всюду выделяет главное и выделяет априори, почему он и говорит, что неверующие не должны приносить хлеб и вино для Евхаристии и не должны участвовать в Ней, если не веруют в истину Воскресения Христова, в то, что Бог не творец зла.
Считая свою псевдомысль доказанной, о. Ш. делает псевдовывод, не имеющий ничего общего с учением св. Иринея: «Исходя из своих отвлеченных предпосылок, богословие это (охуждаемое о. Ш. православное. – Ред.) a priori решает, что „важно“, а что „второстепенно“, причем „второстепенным“ – не представляющим богословского интереса – оказывается, в конечном итоге, именно само богослужение во всей его сложности и многообразии, то есть как раз то, чем по-настоящему и живет Церковь. Из богослужения искусственно выделяются важные „моменты“, на которых и сосредотачивается все внимание богослова. Так, в Евхаристии – это „момент“ преложения Святых Даров и затем Причащение, в Крещении – это „троекратное погружение“, в браке – „тайносовершительная формула“: „славой и честью венчай я…“ и т. д.» (Шмеман 1988, 16).
Софистика, как власть над Истиной, имеет для о. Ш. принципиальное значение. Как мы указывали выше, он импровизирует в «Историческом пути Православия» на тему св. Иринея: «Канон Писания, преемство епископов, толкование пророчеств: все это только внешние формы того основоположного единства, вне которого они ничего не значат… На попытки подчинения Церкви разным учениям и философиям, он отвечает исповеданием самой Церкви, как носительницы и выразительницы всего учения, как мерила Истины и Лжи» (Шмеман 2003, 72). Здесь мы видим, что о. Ш. относит церковное учение к тем «разным учениям и философиям», от которых необходимо эмансипировать Церковь.
В том же ключе о. Ш. обличает православных христиан за то, что у них «истолкование Евхаристии сводится к вопросу о способе и моменте преложения даров, превращении их в Тело и Кровь Христовы, но почти ничего не говорит о смысле для Церкви, для мира, для каждого из нас – этого преложения. Как это ни звучит парадоксально – но интерес к реальному присутствию Тела и Крови Христовых заменяет собою интерес ко Христу. Причастие воспринимается как один из способов „получения благодати“, как акт личного освящения, но перестает восприниматься как наше участие в Чаше Христовой: „Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь?“» (Шмеман 1988, 83).
Если христиане веруют, что сие есть Само Тело и Кровь Христовы, почему же они обвиняются в отсутствии интереса ко Христу? А дело здесь вот в чем: наш автор принципиально отличает веру во Христа от Самого Христа. О. Ш. утверждает: в Православии «Таинства в каком-то смысле отрываются от Христа. Он остается, конечно, и в богословии и в благочестии их установителем, но перестает быть их содержанием, даром Церкви и верующим прежде всего Его Самого и Его богочеловеческой жизни» (Шмеман 1988, 84).
Как мы видим, универсализм (холизм) Нового времени с помощью софистики оборачивается против Православия то одной, то другой стороной. Пеструю смесь несочетаемых воззрений о. Ш. оформляет в лучших традициях модернистской схоластики, о которой прекрасно сказал о. Михаил Помазанский: «В сущности, вооружаясь против старого, якобы „школьного“ богословия, новое богословие само становится в полном смысле слова „школьным“, так как в своих основах питается из источников метафизики и собственного творческого воображения. Желая быть откровением новой эпохи, оно на деле являет собой схоластику двадцатого века» (Помазанский 1954, 7).
Роман Вершилло


