Упорядоченная душа в Новое время
Мы кратко описали путь, который прошел модернизм до 1917 года и после него, и наконец, пришли к нашему времени, когда модернизм стал не нужен.
Как это соотносится с историей антимодернизма?
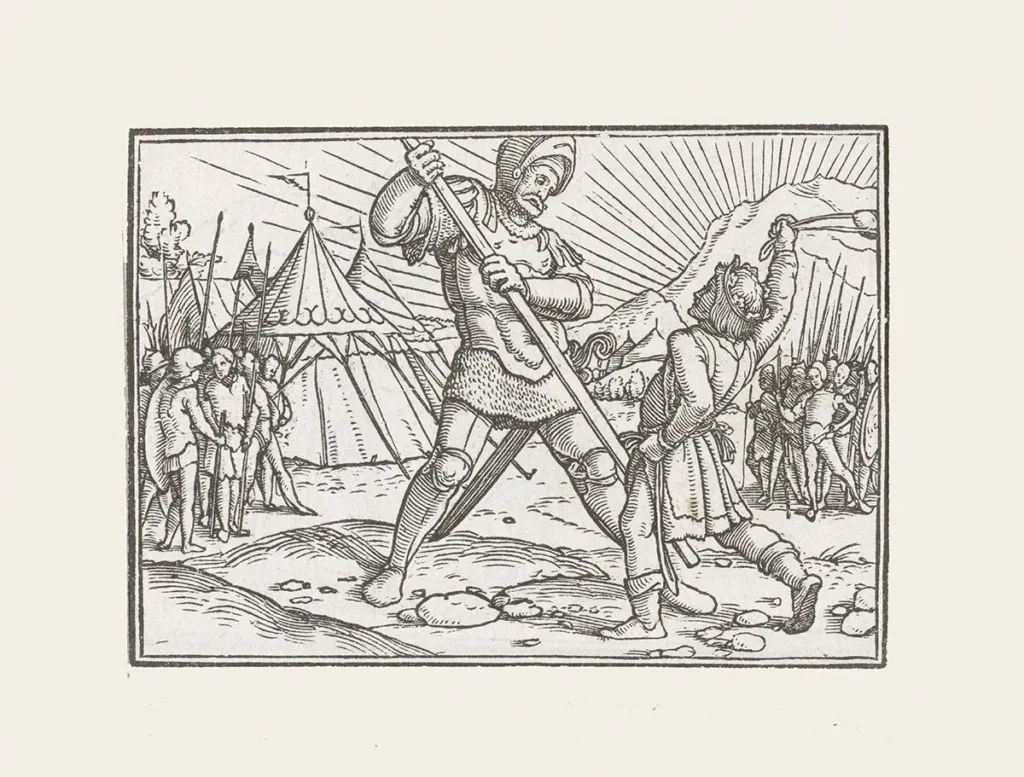
Антимодернизм появился по причине модернизма и все время с ним боролся. На этом пути антимодернизм достиг довольно многого.
Во-первых, он не стал идеологией, так как искал практический выход только в практических вопросах, а на теоретические вопросы отвечал теоретически.
Во-вторых, антимодернизм отвечал только на те вопросы, которые его касались. Поэтому православный антимодернизм не создал своей отдельной догматики, а отсылал к истинному Православию.
Иными словами, антимодернизм
- не стал программой консервативной переделки Церкви и общества и
- не ушел от самой веры к размышлениям о вере.
Тем самым, антимодернизм доказал, что он может существовать в эпоху, когда господствуют гностические идеологии, то есть тогда, когда вроде бы не должна существовать никакая разумная жизнь. Но, теперь, как понимают читатели, вопрос стоит иначе: как и зачем ему существовать после смерти идеологий и того самого модернизма, который вызвал антимодернизм к жизни?
Как мы боролись?
Ведь как антимодернисты вплоть до наших дней боролись с модернизмом и другими идеологиями?
- Антимодернисты объясняли мир, который идеологии сделали необъяснимым. Теперь же люди научились жить в необъясненном мире, и наши объяснения их только позабавят. Так мы можем воспитать в лучшем случае антимодернистов-забавников, но не христиан.
- Мы открывали людям глаза на части реальности, которые идеологиями были закрыты. Теперь все области открыты для обозрения. Идеологии ничего не прикрывают, и нам в этом смысле не остается ничего для работы. Невозможно разоблачить открытое нечестие о. Павла Островского.
- Антимодернисты пугали идеологов, говоря, что старые страхи ими не побеждены. Но теперь страхи никого не пугают, а говоря точнее, люди научились жить в ужасном мире.
Ненужным, наконец, оказывается даже научно-историческое опровержение модернизма.
Нужна остаточная грамотность, умение и желание читать большие книги, чтобы модернизм существовал. Уровень преподавания и научных журналов, работа Института философии, философского факультета МГУ показывают, что это все осталось в прошлом.
В самом деле, полтораста лет модернизм культивировал безмыслие, умение витать над противоположностями, воздержание от суждения. Параллельно тем же самым занимался марксизм в России и либерализм с консерватизмом – на Западе. Естественно, это воспитало соответствующие «научные» кадры.
Если такой человек, как Кураев (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Лишен сана в 2023 году) назначается профессором, Дугин – философом, а Великанов – богословом, научное опровержение модернизма больше не нужно.
Кураев – в 1996 году по представлению Патриарха Алексия профессор Российского православного университета. В том же году профессор ПСТГУ, и с 2003 года – Московской духовной академии.
Дугин – преподает на философском факультете МГУ (Кафедра онтологии и теории познания) курс «Пост-философия» (1 февраля 2006 – 18 мая 2006). В 2008 г. становится профессором социологического факультета МГУ. Учреждает Центр консервативных исследований при социологическом факультете МГУ.
Великанов – с 9 июня 2010 по январь 2013 — проректор по научно-богословской работе МДА. С 27 декабря 2018 года по октябрь 2020 года – заведующий кафедрой богословия МДА. С ноября 2019 года по сентябрь 2020 года – первый проректор Сретенской духовной семинарии.
Модернизм, как учение, съел сам себя, сам себя испарил, и это не осталось без последствий для тех, кто с модернизмом борется.
Антимодернисты будут
Модернизм это модернисты, – говорили мы. Но тогда будет верным и то, что антимодернизм – это тоже антимодернисты, которые есть и будут, каким бы именем их ни называли.
Попробуем это обосновать.
Антимодернизм как вражда против мира
Ревностные христиане всегда искали, как выполнить заповедь о вражде против мира (1 Ин. 2:16).
Когда они увидели этот мир вторгающимся в саму Церковь, то стали антимодернистами. Они научились отличать модернистов от православных и пытались научить этому других.
Мы отличали модернистов от православных по тому признаку, что модернисты на идеологических основаниях утверждали, что обмирщение Церкви необходимо. Теперь идеологии умирают, но мир остался, и вражда с ним неизбежна.
Идеологические, интеллектуальные, культурологические объяснения теряют свой вес для самих модернистов. Не действует даже тот распространенный ранее мотив, что новому человеку должно быть удобно находиться в новой Церкви. Теперь и неудобное становится удобным.
Я уже писал в книге про о. Шмемана, что модернистский проект в этом отношении был обречен с самого начала. Модернизм может существовать, только если мир и Церковь находятся в конфликте. Если Церковь в лице своих представителей, типа оо. Ткачева, Кураева или Островского, становится совершенно мирской, то модернизм исчезает.
Вместо этого на первый план выходит неприкрытая похоть власти, злая воля разрушителей Церкви, которой уже нет никакого названия.
Итак, в новых условиях противостояние стало обнаженным: не Христианство против какого-нибудь «персонализма», а христианин против конкретного персоналиста.
Конечно, хорошо, что в арсенале антимодерниста сохраняется набор антигностических приемов и коллекция компрометирующих материалов. Но к ним должен прилагаться антимодернист, который отделен от мира в том конкретном смысле, что враждует против модерниста и ему подобных идеологов.
Возьмем нередкий пример, когда священник устраивает развлечения в храме, при храме или развлекается сам. Теперь нет нужды возмущаться или проводить сложный анализ: «Да как же это!», «Да что это?», и выяснять, почему это неверно.
Нам достаточно знать, что священник творит бесстыдные дела и говорит бесстыдные слова, потому что ему это нравится. Он так хочет, вот и все. Для нас это достаточно глубокое духовное знание о предмете.
И раз модернисту это нравится, то он человек недостойный имени христианина. А человек недостойный всегда будет врагом Церкви, хотя бы он время от времени и воздерживался от антиправославных демонстраций.
Задачи на будущее
Такое упрощение нашей вражды с миром и модернизмом требует, на мой взгляд, уточнения нескольких тем.
Во-первых: что такое борьба с модернизмом?
Власть и безвластие
Другая тема – это власть и безвластие православных в новом веке. Очевидно, это связано с первой темой.
Известно, что антимодернизм уже в лице К.Н. Леонтьева не покушался на политическую и церковную власть. В XX веке, как мы знаем, архиеп. Феофан Полтавский прямо отказывается от Церковной власти и уходит в затвор. И все-таки все это время и вплоть до наших дней, у антимодернистов была своеобразная власть суда, природа которой остается не исследованной.
Суд
Третья тема, требующая исследования, – это тема суда. В каком смысле мы судим мир и модернизм?
Мы знаем, что сегодня в обществе и в Церкви не судят инакомыслящих именно за их ложные мысли. Это означает, что в обществе и Церкви установилось самое настоящее безвластие, потому что власть есть суд.
Христиане, однако, продолжают настаивать на своем праве и обязанности судить мысли, слова и дела. Эта претензия вызывает сразу много возражений:
- По какому праву ты судишь?
- Покажи нам Истину, от имени которой ты выносишь суд.
- Почему твой суд бездейственен? И зачем ты судишь, если он бездейственен?
Гордость
И, наконец, последняя, очень острая, тема, – это гордость. Упрощение вражды – антимодернист против модерниста – угрожает антимодернистам духовной смертью: неутолимой гордостью. В борьбе с модернизмом и идеологиями выковались такие умы и характеры, которые стали неукротимыми.
Эти проблемы я оставляю на будущее, а сейчас попробую выяснить вопрос о том, что такое борьба с модернизмом.
Борьба
В своей книге я пытался отличить действительно важное для христиан от навеянного гнозисом. Мы боремся с модернизмом, все еще находясь в тени модернизма, как если бы он был больше Православия. Модернизм диктует нам, о чем думать и говорить, против чего действовать.
Значит, само понятие «борьбы» должно быть уточнено.
Прежде всего христиане не должны становиться активистами и, в частности, софистами, профессиональными спорщиками.
За время сосуществования с модернистами православные выработали софистические приемы, нужные для победы в споре, а не для понимания.
Новые обстоятельства, мною описанные, позволяют нам оценить заново наши приемы, проверить их. Теперь, когда модернизм умирает, софистические приемы теряют свое значение. Останутся только те приемы преследования, которые могут служить также для нашего внутреннего рассуждения и разумного диалога. Это такие приемы, которые мы применяем не только к модернистам, но и к самим себе, чтобы нам самим не уклоняться от истины.
Наше противостояние с модернистами мы определили как личное, но оно не должно быть бессодержательным. Мы расходимся с ними не только в ответах, но более всего в том, что ищем ответы на страшные для нас вопросы, то есть на вопросы о вере, надежде и любви.
Итак, хотя наше противостояние с модернистами волевое, соперничество в намерениях, мы не должны перестать верить и мыслить. Будем учиться применять только те приемы, которые нужны нам самим, ставить вопросы интересные лично нам, решать вопросы, важные для нас, даже если модернисты уклоняются от ответа на них.
Так антимодернизм, наконец, становится полностью умозрительным, и в то же время рассуждает не о модернизме, а исключительно о модернистах.
Антимодернист как часть проблемы
Чтобы еще далее продвинуться в наших исследованиях, я предлагаю следующий ход мысли. Я предлагаю рассматривать антимодернистов как часть проблемы, часть эпохи Отступления.
Такой поворот мысли мне кажется последовательным с нашей стороны. Мы искали, как и чем поразить модерниста в его беспорядочной душе. Затем, когда мы занялись поисками упорядоченной души, мы обнаружили в конце концов антимодерниста не как идеал или меру всех вещей, а такой же предмет суда Божия, как и всё остальное.
Значит, антимодернизм будет существовать в той мере, в какой антимодернисты сохранят веру, разум и мужество предстать на Суд.
Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих: яко да оправдишися во словесех Твоих и победиши, внегда судити Ти.
Пс. 50:4



20 Responses
Спасибо за эту Исповедь.
“антимодернист против модерниста – угрожает антимодернистам духовной смертью: неутолимой гордостью.”
Даже неутолимой..что-то новое..Вы писали об опасности впасть в самосоверш.,саморазвитие ,это мне ясно. А вот гордость..только если личные проблемы! Святитель Игнатий, Святитель Серафим Соболев обличали модернизм и не жаловались на гордость. Св Иоанн Кронштадтский в ревности по Богу, желал отсохнуть руки ЛТолстого и в дневнике не находим раскаяние в этом, не сожалел праведник о своих словах и чувствах, как о гордости.
Другое дело, модернисты Питерские за эти слова не почитают прав Иоанна святым.
Личная проблема [спотыкание] читателей, это когда оценку действий и слов равняют с осуждением,уничижением,
превозношением, услаждаются лестью о себе: я лучше и чище модерниста.
Иначе: модернистов нужно ненавидеть бесстрастно,как модернистов. Но разобраться в этом,не путать одно с другим, можно только лично.
Слова ,что мы привыкли, научились жить в беспорядке- парадоксальны.
Антимодернисты научились терпеть .
Модернисты становятся бесноватыми и теперь им тоже придётся терпеть!
А вот гордость..только если личные проблемы!
В том то и дело.
Кто скажет, что он не горд? Лично, лично.
Модернизм остаётся как грязь. И для меня, и для циника-модерниста это грязь. Мне она противна, ему она безразлична. И мне противен поэтому модернист. Но он по природе человек и я не должен стать человеконенавистником. Вот о чем речь. Иоанн Кронштадский видел рыкающего льва. А я вижу ничтожество. И не должен превознестись.
“..злая воля разрушителей Церкви..” Она жадная, бешеная,и уже не тайно.
Только сравнить: чему НАСИЛЬНО учат народ, развращают и как должно быть :
“Вне Церкви нет спасения. Но что значит вне Церкви?..”
..”Перед лицом любви Божией каждый воскресший человек произнесет свое окончательное «да» или «нет» Богу. Вот почему этот Суд страшен, а не потому, что на нем Господь, забыв любовь, будет судить деяния человеческие «по всей справедливости». Осипов. с учениками.
И: “Не таковы наши церкви; нет, они истинно страшны и ужасны. Ибо, где Бог, имеющий власть над жизнью и смертью; где так много говорят о вечных муках, об огненных реках, о ядовитом черве, о несокрушимых узах, о тьме кромешной, – то место страшно. А иудеи ничего этого и во сне не видят, так как живут для чрева,” Святитель Иоанн Златоуст. Против иудеев.
Уважаемая Фотиния!Противостояние модернистам именно угрожает антимодернистам гордостью, как и исполнение любой добродетели угрожает Христианам тем же. По- моему автор и имеет в виду именно это, а не неминуемость впасть в гордость.Просто, как и при исполнении любой добродетели, дай Бог нам “держать ухо востро”, считать себя “рабами неключимыми”, делающими то, что обязаны делать и результат приписывать содействию Божьему.А, в целом, спаси Вас Господь за исполненный Христианской любовью к истине комментарий!
Совершенно верно!
Нужно, видимо, чаще напоминать, что модернисты — не инакомыслящие. Это люди опасные. Они предают в самый ответственный момент. И предательство это тем ужаснее, чем талантливее и дольше они морочат православным голову. Это чудовища беспощадные. Сознательно избравшие зло. И вопрос с Русской Православной Церковью на Украине, верю, будет решён военным путём — нашим наступлением. Но, да будет воля Божия!
И, разве модернизм умер? Разве он не перерождается в чудовище. И бороться с ним, это не только фиксировать, философски структурировать, а и прокричать. (“В Галичской епархии запрещено проповедовать с амвона на тему войны!” А в ответ тишина.. Он ещё не вернулся из боя.)
Вы занимаете осторожную позицию, и, это понятно. Много людей теперь больных и неадекватных, которые напрашиваются к вам друзья. Но мне и не понятна какая-то растерянность. То надо идти в военкоматы, то это признак гордыни. То надо удаляться из соцсетей, то надо регулярно читать wargonzo и много других. Потом опять разочарование, всяк журналист — ложь. Некоторые пошли же в военкомат и удалили соцсети после проповедей отца Владимира. Без сомнения и не жалеют и благодарят конечно, хочу сказать. Но выходит они поспешили… Не всё так просто? Надо осудить модернизм, но.. не всё так просто.
Я возможно не прав, но ваши беседы и проповеди двух-трёх годичной давности отличаются какой-то большей ясностью. Читая ваш сайт я лично не ищу инструкций. Хотя мне и нужна чёткость и сжатость мысли, которой Правда выражена у вас. Меня, в своё время, поразила смелость, не скандальность, а именно смелость. Безоглядная.
Теперь многое видится иначе.
Вот например, вы критиковали отца Георгия Максимова. Но разве его проповеди с амвона о войне теперь не образец веры и плодов этой истинной веры. Вы критикуете Андрея Ткачёва. Но люди оказывается слушают его не для утешения в облегчённом православии и подмены веры идеологией не происходит, на мой взгляд.
Значит модернисты, если они были таковыми, одни перестают ими быть другие идут до чудовищного конца.
А глупцы, признаюсь, остаются неисправимыми.
Я не припомню, чтобы я призывал удалиться из соцсетей или регулярно читать их. Кто говорит, что идти добровольцем признак гордыни?
Я думаю, что это тоже признак катастрофы, если речи о. Максимова принимают за образец веры и утешаются речами о. Ткачева.
Удалиться из соц сетей призывал своих прихожан я. Ради того, чтобы их души не захлестнуло земное отчаяние.
Надеюсь, это понятно?
Что касается военкомата, то это призыв риторический. Самому себе то есть. Здесь призывать никого не надо. Каждый сам понимает и каждый сам решает, ни с кем не советуясь и ни на кого не оглядываясь. И это правильно. Блажен иже не осуждает себя в том, что выбирает.
Я поддержал и поддерживаю СВО.
Благословлял мобилизованных и добровольцев в храме и в военкомате города Чехов.
Говорил и говорю что это справедливая война за правое дело.
Это вовсе не значит, что я отвечаю за действия или бездействие министерства обороны. Если Вам в этом видится двойственность, то мне – нет. Люди идут исполнить свой личный религиозный и гражданский долг.
“Некоторые пошли же в военкомат и удалили соцсети после проповедей отца Владимира. Без сомнения и не жалеют и благодарят конечно, хочу сказать. Но выходит они поспешили… ”
С чем поспешили, дорогой Трофим?
Я думаю, никто из них не спешил.
Мобилизованные были обязаны законом и долгом.
Добровольцы – также. Были связаны тем же долгом, которые они ощутили в себе на фоне событий. И от того, что Россию постигли большие неудачи, и даже от того, что многие не понимают, почему Путин не взрывает мосты на Днепре (я тоже этого не понимаю) – ничего не изменилось. И не изменится, даже если, не дай Бог, наша Родина из-за предателей не выиграет войну.
Так кто поспешил дорогой Трофим? Выразитесь, прошу Вас, ясно.
Признаться, я не все понимаю в рассуждениях Романа. Мне бы некоторые моменты на пальцах пояснить. С примерами. Что-то, кажется, понимаю, но, часто, не уверен действительно ли понимаю правильно. Такие вот «мильон терзаний» после каждого прочтения. Впрочем, сам Роман как-то писал, что здесь рассуждения сложные и не всем доступные, поэтому смиряюсь и глупых вопросов не задаю.
Последняя статья грустная. Как будто прощальная какая-то. Действительно модернизм победил и перешел в другое качество. Больше в Церкви нет единомыслия, а значит, что бороться не с кем. Или надо вступать в борьбу всех против всех. Горько видеть, как на глазах рушат то, что стояло веками и, казалось, незыблемым. Не стены уже рушат – нутро, основу. И ты ничего не можешь с этим поделать. И уйти не можешь, потому что некуда. Вот именно, что некуда. Сейчас даже звать людей в Церковь стало почти невозможно. Потому что неизвестно с чем они столкнутся, придя в конкретный храм. С рассуждениями о любви, преодолевающей перегородки между верами, с перевиранием Святых Отцов и отвержением аскетики, с модернизацией богослужения, с игрой в первых христиан, с бурной спортивно-культурно-развлекательной деятельностью, со священниками, открывающими балы и играющими в рок-группах, с плясками в храме, наконец? Ну да, ну да, знаю, что Таинства совершаются, только вот куда все остальное? Наверное, человеку ничего не осталось, никому мы уже помочь не можем – себе бы помочь. «Богу же все возможно».
А иной раз и засомневаешься – а сам то ты не модернист, часом?
Я был бы рад ответить на вопросы, которые появляются.
В моих статьях много утверждений, но не так много доказательств. Это как бы конспект, потому что вместе с доказательствами каждая статья превратится в книгу, а книга – в собрание сочинений.
Надо функционировать как клеточка тела Христова. Здоровой – с Божией помощью оставаться здоровой и выполнять своё предназначение. Больной – искать исцеления, а раковые заболевания и опухли и прочие болезни исцеляются от святынь.
Врата адовы не одолеют Ея(см. Мф 16:13) [а также] сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? (Лк 18:8)
Модернизм ли проблема? В том смысле, что как были адские волны на Церковь Христову во все времена, так они есть и теперь. А Кто повелел морю и ветру умолкнуть? Кто изрек глагол перестань? – И ничто из сотворенного не смогло и не восхотело даже противиться Ему. Дело распереживавшихся учеников было разбудить Учителя, который спал на возглавии, за что они, даже и упрек получили весьма полезный.
Будут ведь и люди, что услышат “Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие” (Мф 7:22)
Ничего плохого нет в том, чтобы призывать людей в Церковь и прочее, потому что это по заповеди. а Любящим Бога всё содействует ко благу (Рим. 8:28). А кто слушать не захочет – сам отойдёт и не будет ходить за Ним. Очень уж некоторые глаголы бывают тяжки, да идти больше некуда, ибо “куда нам идти, ибо у тебя глаголы вечной жизни (см. Мф 25:31)” – как сказал святой первоверховный апостол Петр. Аминь.
Смущает меня, что такой грешник как я пишет и говорит святые слова Писания! Трезвитесь, бодрствуйте, мужайтесь, молитесь, и выручайте нас грешных и всю паству – Вашими святыми молитвами из тины грехов и проклятых козней дьявола, пожалуйста, очень прошу и умоляю. Тут очень мерзко и горько, помилуйте!
Ну раз вы согласились, то прошу не гневаться. Вот три вопроса, по этой статье. Возможно, ответы есть в каких-то предыдущих статьях, тогда дайте ссылки, пожалуйста:
1. Как именно идеологии делают мир необъяснимым ?
2. Что значит “неудобное становится удобным”?
3. Почему Дугин не философ ? (Почему Кураев не профессор и Великанов не богослов – понятно). Меня лично от дугинских сочинений почти физически тошнит (пытался читать), но то же самое и от Ницше, например. Или, если вы имеете в виду, что “любовь к мудрости” подразумевает мудрость истинную, то тогда из тех, кого называют философами, вообще мало кто таким является.
Я соберусь с мыслями и постараюсь Вам ответить.
Я ответил, как мог: https://antimodern.ru/tri-voprosa-o-poryadke/
Теперь я знаю, как называют таких “христиан”, как я: “антимодернист-забавник” (я бы даже сказал: баловник).
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного.