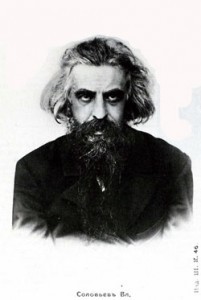Несмотря на нередкие случаи внутренней полемики между различными направлениями нового богословия по частным вопросам, существует некоторая общность, за которую эти разногласия не выходят; некий общий знаменатель, числителями которого спорящие стороны выступают: определенные свойства, принципиально отличающие каждую из новых школ от ортодоксального (святоотеческого) богословия, или Священного Предания, что и позволяет говорить о новом богословии (по аналогии с «новой теологией» в католицизме) как историческом феномене. Одним из таких существенных отличий, во многом определяющим все остальные, представляются революционные изменения в богословской антропологии эпохи. Частичная рецепция неогностических идей учения о человеке у Хомякова, Достоевского, Соловьева, Бердяева, Карсавина, Флоренского, Булгакова – вот основной механизм искажения патристики как таковой в так называемом «неопатристическом синтезе» представителей «парижской школы» и в новом богословии вообще.
«Религия человека» (то есть неогностицизм и неоплатонизм гуманизма, возникший в результате увлечения мыслителей Нового времени различными версиями теософии, каббалой и масонством, в частности), или (другое обозначение этого учения) антропотеизм, проникает в новое богословие в результате недостаточно критической оценки этих, по сути, неоклассических ересей, требующих полного, а не «частичного», отвержения. Проявляется этот рудиментарный оккультный гуманизм в следующих формах нового богословия: либо в «персонализме» (рецепции гностическо-каббалического учения о «божественном происхождении» человеческого духа как собственно «личностного начала» в индивиде («Абсолютное раскрывается лишь в личности: есть образ Божий в человеке, но нет его в государстве, обществе или ином каком коллективе» (I, 16)); либо, наоборот, в идее «общей природы» как «единосущности» человечества, аналогичной единосущности Св. Троицы (рецепции экзотерической версии этого же гностицизма, различных учений о «Софии», «общей душе» Адама Кадмона каббалы, или «Мировой Душе» неоплатонизма); либо в экклезиологической утопии экуменизма (с тем же принципом стирания границ между человеческим и Божественным, в данном случае – между ересью и Православием, расколом и канонической Церковью); либо в националистическом мессианстве (как, опять же, модусе неокаббалистики).
«Соловьев в своей униональной проповеди; “теократическое” или “богочеловеческое” дело (это “или” для него чрезвычайно характерно!) представляется ему созданием “видимого”, земного, великодержавного тела для невидимого всехристианского духа… Религиозно-общественным соблазном был заражен отчасти даже Достоевский, отметавший “третье дьявольское искушение” и Рим, провозгласивший нового, на все согласного Христа на последнем нечестивом соборе, – и все-таки видевший “великое предназначение Православия на земле” в том, что “государство обращается в Церковь, восходит до Церкви и становится Церковью на всей земле”… И раннее славянофильство как философия русской истории стояло в зачарованном кругу общественного утопизма: греза о православном обществе и культуре однородна и сенсимонистским мечтаниям, и романтической тоске по средневековому Граду, и ультрамонтанскому этатизму французских теократов с де Местром во главе… Социалистический хилиазм, идеология “священного союза”, масонские грезы об “истинном христианстве”, националистический религиозный мессианизм польский и русский, – все эти течения общественной мысли прошлого века вдохновлены замыслом земного царства. Зияние между греховным, тварным миром и миром божественного, исполненного совершенства, замещено гностической диалектикой и расчетами по “началу достаточного основания”, – и “невольничьи тревоги” мира сего невозбранно вторгаются в мир святыни» (I,15).
При этом, адекватно определяя общую гностическую сущность всех этих учений, сам Флоровский пребывал к системе Соловьева в том же самом отношении, в котором Достоевский находился к французскому ультрамонтанизму, отвергая этот утопизм в его аутентичной западной версии, чтобы провозгласить его псевдоправославный аналог под вывеской «русского социализма». То же самое у Флоровского, тут же (рядом, казалось бы, с убийственной критикой Соловьева и западного неогностицизма вообще) демонстрирующего влияние на него самого всех этих невозможных с ортодоксальной точки зрения идей:
«”Новая тварь”, рожденная искупительным подвигом Спасителя, не отторжена от мира, но пребывает в нем. Как выразительно заметил в одном из ранних своих произведений Влад. Соловьев: “Новый Иерусалим, – град Бога живого, – существует не в одних только помыслах, желаниях и внутренних чувствованиях христиан; божественные формы Церкви составляют уже и теперь действительные камни его основания, на которых воздвигнется и таинственно воздвигается непрерывно все божественное здание, так что, хотя не все в видимой церкви божественно, но божественное в ней есть уже нечто видимое”. Огненное обновление мира началось и продолжается, – мир, эта скорбная, исполненная злостраданий жизнь, не оставлена Богом; именно в ней, в суете и томлении эмпирической истории, “тайна Божия совершается”, растут и прозябают благодатные семена Царства».
Как мы видим, критика Соловьева отнюдь не означает непричастность его заблуждениям самого Флоровского, но парадоксальным образом сочетается с существенным влиянием идей первого на второго (в частности, типичной для нового гностицизма идеи эволюции мира в Царство Божие). Или:
«”Кто однажды встретил Христа Спасителя на своем личном пути и ощутил Его божественность, – писал недавно о. С.Н. Булгаков, – тот одновременно принял и все основные христианские догматы – и о рождении от Девы, и о боговоплощении, и о пришествии во славе, и о пришествии Утешителя, и о Св. Троице”. Все они в строгой отчетливости открылись ему в опыте веры, в реальном касании “вещам невидимым”, – и потому не может он сомневаться и “допускать” иные догматы; в иных догматах раскрылась и сокрылась бы иная жизнь, иной опыт, касание чему-то иному. В свое время Шеллинг совершенно справедливо указал, что “нельзя говорить о Боге вообще, если только речь идет действительно о Боге”; “кто говорит только о Боге вообще, – замечал немецкий мыслитель, – говорит не об истинном Боге, а о чем-то ином, к чему он лишь прилагает имя Бога…» (I,10-11).
Но кто, как не Булгаков и Шеллинг, «допускали иные догматы», прямо отвергая ортодоксальное их содержание? И что вообще может богохульствующий мистик добавить «истинного» о Боге к сказанному Церковью, имеющей опыт непосредственного богообщения? Неогностическое искажение христианской антропологии в новом религиозно-богословском сознании неизбежно сопровождалось профанацией и христианской пневматологии, потому что антропотеическая догма «становления трансцендентного (божественного) имманентным (человеческим)», или установка на стирание онтологической границы между тварным и нетварным духом предполагает не только титаническое обожествление, или сублимацию, тварного, но и богохульную редукцию нетварного. Поэтому ссылки на Соловьева, Булгакова и Шеллинга уже сами по себе свидетельствуют о заражении богословской мысли Флоровского гностической прелестью, в результате чего человек утрачивает способность адекватной рефлексии, противореча сам себе в соседних абзацах и уже не видя этого, словно в каком-то опьянении. Так и получалось, что, справедливо отвергая такие экзотерические версии нового гностицизма как «социалистический хилиазм», «русское мессианство», «униональная теократия», «софиология», Флоровский, как типичный представитель нового богословия, одновременно исповедовал либо персонализм как эзотерическую версию этого же самого неогностицизма, либо паллиативный экуменизм («неравночестность» «ветвей» единого «харизматического» древа «невидимой Церкви»), либо «общую природу» и «недомолвленный» (но логически неизбежный здесь) апокатастасис как другие экзотерические версии этой же самой «софийности» («за исканием “религиозно-общественного идеала” стоит страстная, плотская привязанность к “здешнему”, – не радостная тяга к нетленной софийной ризе мира, а мирская тоска, мирское вожделение» (I,15)).
Если святоотеческая антропология говорит по преимуществу о недостоинстве человека, о спасении Божественным всемогуществом человека вопреки его косной греховности, «чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом» (1 Кор. 1:29), то новая «неопатристическая» (а на самом деле, неогуманистическая) антропология – о достоинстве человека по преимуществу, о его обожении по какому-то непреложному онтологическому закону. Безусловно, на позициях этого неогностицизма стояли славянофилы и почвенники («Слово плоть бысть, т.е. идеал был во плоти, а стало быть, не невозможен и достижим всему человечеству… Да Христос и приходил затем, чтоб человечество узнало, что знания, природа духа человеческого может явиться в таком небесном блеске, в самом деле и во плоти, а не что в одной только мечте и в идеале, что и естественно и возможно. Этим и земля оправдана» (II,112), то есть, переводя на язык богословия, человечество оправдано Боговоплощением, а не Кровью Христовой), и наследующие им мыслители и богословы следующих поколений. Человек стоит недалеко от Бога либо в категории «нравственного» (Хомяков, Достоевский, Храповицкий), либо в категориях «свободы» и «воли» (Шеллинг, Достоевский, Бердяев, Храповицкий), либо в категории «познания» (Гегель), либо в категории «личности» (Бердяев, Флоровский, Лосский), и непременно в том или ином модусе «всеединства» (тут практически все без исключения: и гегельянцы, и шеллингианцы, и карловчане-раскольники, и парижане-экуменисты, и софиологи, и персоналисты).
Разница лишь в том, что «новое религиозное сознание» прямо говорит о том, что «божество принадлежит человеку и Богу» (III,55); что «личность не от мира сего» (V,189); а «новое богословское сознание» (вернее – обморок) говорит это же самое опосредованно через «патристику» (то есть привлекая неоплатонические теологумены Климента, Оригена, свт. Григория Нисского, либо собственные превратные толкования ортодоксальных по смыслу высказываний отцов). Особенно это наглядно видно в идее единосущности как тотального единства человеческого естества, где атрибут нетварной природы перенесен на тварную «при истолковании догмата Троицы и Богочеловечества» («Едино естество Трех Лиц Пресвятой Троицы, и мы говорим, что у нас не три бога, но единый Бог; у Него единая воля, единая мысль, единое блаженство. Отсюда видно, что естество, или природа, не есть отвлечение нашим умом… а некая реальная сущность, реальная воля, реальная сила, действующая в отдельных лицах – у всех людей одна воля и что Иван, Петр и Павел, хотя и три лица, но один человек» (VI, 298-299; ср. Точное изложение православной веры, VIII)).
Аналогичная, по сути, полемика с догматом имеет место в новой «эзотерической» экклезиологии с ее различными уровнями «посвящения» в «тайну» «харизматических границ Церкви», то есть их отсутствия, «невидимого» для «немощных в (гнозисе) вере» («Учение о Церкви принадлежит к числу самых таинственных и неизреченных догматов христианской веры: здесь “велия благочестия тайна” предстоит нам в своей еще несбывшейся, неосуществившейся полноте. И не случайно, ни апостолы, ни святые отцы, ни Вселенские Соборы не дали законченных определений церковности» (I,8)).
Так, непоследовательная критика отечественной философии всеединства (то есть неошеллиангианства и неогегельянства) и у богословов «парижской школы» и в «нравственном монизме» становится причиной частичной рецепции ее идей, тех аспектов, которые не попадают в зону критики. Здесь работает тот же принцип, что и в аскетике, в борьбе с греховными помыслами. Грех начинается с «прилога», то есть внутреннего собеседования с ним. То же самое происходит и тут: внутренний диалог с ложью и неосознанное принятие некоторых ее аргументов, вместе с которыми проникает сам дух лжеучения, и начинается процесс аберрации, внутренней коррозии ортодоксального мировоззрения. Как успешная борьба с грехом предполагает недопущения даже греховных помыслов, так полемика с ересью требует полного ее отвержения, «разбивания» ее начатков и атавизмов «о камень» истинной веры без либерального оставления ее «положительных моментов», признания за ней «частичной» истины, через которые и осуществляется «синтез» православия с ересью.
Аналогичное «диалектическому» отношению Флоровского к учению Соловьева (то есть одновременная богословская критика еретической философии и проходящая мимо сознания богословская рецепция критикуемого), аналогичное отношение имеет место и в паре Храповицкий – Соловьев, где догмат о Богочеловеке перемешивается с «догматом о Богочеловечестве». Это можно видеть на примере статьи «Ложный пророк», где архиепископом даются замечательные по точности определения и самого Соловьева, и порожденного им движения «нового религиозного сознания». «…эти чтения [о Богочеловечестве] представляют плагиат с Шеллинга… Таково и влияние Соловьева. Вся плеяда наших профессиональных лжецов: братьев Трубецких, Розановых, Петровых, Семеновых, вся эта наперебой лгущая компания – плоды соловьевской декаденщины и, по большей части, его ученики и приятели. Пользуясь безпросветным невежеством русского общества в христианском учении, в Библии и истории Церкви, они допускают самые невероятные вещи. Розанов выдумывает несуществующие тексты в Библии, Трубецкой С. преспокойно “скатал” свою нелепую диссертацию о Логосе с двух противоречащих друг другу немецких книг, Мережковский и Розанов вкупе проповедуют заповеди Моисея, особенно седьмую, без отрицательной частицы не, и все вместе изображают собою современных николаитов или хлыстов самого низшего разбора» (IV, 184-189). Действительно, «профессиональные лжецы» и «современные николаиты», шарлатаны и гностики с неконтролируемым либидо, и ничего больше. Тем неожиданней заключение статьи: «Напротив, те высокие идеи исправления полуязыческой европейской культуры началом моральным, этой действительной заслуги Соловьева, за которую Бог простит ему половину его грехов, остались не только не оцененными его младшими современниками и последователями, но даже и не замеченными». Но в том-то и дело, что никакого «напротив» здесь нет, потому что «моральное начало» у Соловьева (о крайней аморальности которого Храповицкий только что поведал с подробностями очевидца) – это тоже «плагиат с Шеллинга», Шопенгауэра и т.д.; это не более чем еще одна фикция, неотделимая от всего остального в философии всеединства как антропотеической религии самоспасения. И именно отсюда (то есть из опосредованного Соловьевым и Достоевским немецкого романтизма) происходит «единосущный» этому волюнтаризму «нравственный монизм» и «догмат о Богочеловечестве» самого Храповицкого, что оборачивается разрушительными последствиями для его богословия, «крестоборческим» отрицанием ортодоксального смысла догмата Искупления, в частности.
Схожую «нравственно-монической» концепцию Искупления как процесса восстановления единства Бога и мира можно наблюдать у другого представителя той же «плеяды лжецов» Н. Бердяева, отличающуюся от концепции Храповицкого только большей степенью гностицизма (или оригенизма): «Этот мир есть отпадение от Бога… Но у мира осталась связка с Богом, эта связка в мистическом порядке бытия есть Сын Бога, Бого-Человек, Бого-Мир, вечный заступник. Связка эта воплотилась в истории в личности Христа. Через Богочеловека, Бого-Мира — Мир становится божественным, обоживается. Между Христом и миром существует лишь эмпирически кажущаяся противоположность, от слабости человеческого сознания исходящая, но под ней скрыта мистически реальная соединенность. В исторических пределах христианства соединенность Христа и мира, божественность человечества и мира недостаточно видна, так как не закончилась космическая эпоха искупления. Лишь в божественной диалектике троичности окончательно завершается соединение мира с Богом, лишь в грядущей церкви воскреснет плоть мира. В Духе исчезает всякая противоположность между двумя детьми Бога, между дитятею-миром и дитятею-Христом. Христос явил Собой Бого-человека, Дух святой явит Бого-чело-вечество» (V,197). Символично, что тут же мы видим не только шеллингианско-каббалическую «мистическую диалектику Троичности, окончательно соединяющую Творца с творением» (то есть тот гностический аспект философии всеединства, который усваивает «нравственный монизм»), но и пролегомены диалектического лозунга «неопатристического синтеза» Флоровского «Вперед! К Отцам»: «В новый мир войдут все элементы нашего мира, но преображенные, ничто не уничтожится, но все просветлится. Мы смотрим вперед, а не назад, на грядущее царство Божие, а не на потерянный рай прошлого. Мы хотели бы быть религиозными революционерами, а не реакционерами» (V,197), что лишний раз показывает, насколько все эти «софийные» религиозно-революционные идеи взаимосвязаны и типичны для «новых николаитов» и «новых отцов».
Поэтому лишь в иных формах (но столь же разрушительно для ортодоксального сознания, как и в «нравственном монизме») сказывается восприятие прелести этого неогностицизма в «неопатристическом синтезе». «Мы молимся о том, чтобы православным стал весь мир…» «изъявительно исповедуя тождество Православной Церкви с Церковью видимой, благоговейно умалчивая о составе Церкви Невидимой, не предваряя дерзновенными домыслами Божественного разделения человечества на овец и козлищ… мы жаждем и видимого единства христианского мира, вселенского общения молитвы и догматического единомыслия и здесь, на земле» (I,13). Романтизм этой экклезиологии был бы невозможен без гностических к ней пролегоменов из все той же статьи Бердяева (с той же, что у Храповицкого, опорой на Достоевского и Соловьева как на «наших учителей», «больше всех сделавших для нового религиозного движения»): «ни одна из существующих исторических церквей не есть вселенская Церковь, не заключает в себе полноты откровения, а мир идет к Вселенской Церкви, жаждет осветить в ней свою жизнь» (V,198)). Как во «Вселенской Церкви» «Третьего Завета» «новых николаитов» «окончательно исчезает кажущаяся противоположность между миром и Христом» (V,199), так и в «невидимой Церкви» «парижской школы» исчезала разница между Православной Церковью и еретическими сообществами.
Утопизм декларированных Флоровским целей вступления в экуменический проект мы сполна можем оценить теперь, когда «богословский диалог» Православия с ересями лишь по инерции еще говорит о миссионерских целях, а на деле, конечно, давно уже не рассчитывает на «догматическое единомыслие» и потому все больше делает акцент на «недоведомом» «харизматическом единстве» (Флоровский) как «скрытой реальной мистической соединенности» (Бердяев), на спекулятивной «братской любви», на «совместных делах» и прочих профанациях миссии, потому что концепция «диалога с ересью», «воцерковления мира» и т.п. неогностические идеи является априори ложными (в том числе – по свидетельству самого же Флоровского), делающими реабилитацию и неосознанное приятие, как минимум, аспектов ереси и обмирщение Церкви неизбежными по действительно непреходящим законам духовной жизни. Воочию это можно видеть в самом софистическом языке нового богословия (заимствованном у ново-религиозной философии), на котором теперь пишутся уже общецерковные документы, исполненные неизбывными противоречиями и двусмысленностями, если не откровенным лукавством (все по тому же гностическому принципу «различных уровней посвящения в тайну»).
Александр Буздалов
Литература
I прот. Георгий Флоровский. Два завета / Флоровский Г.В. Богословские статьи. О Церкви. Изд.: «Директ-Медиа», 2011.
II Достоевский Ф.М. / Бесы. Подготовительные материалы / Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Т.XI. СПб, «Наука», 1974.
III Соловьев В. Чтения о богочеловечестве. Статьи. Стихотворения. СПб., «Худож. лит.»,1994.
IV арх. Антоний (Храповицкий). Ложный пророк / арх. Антоний (Храповицкий). Полн. собр. соч.: В 3 т. СПб., 1911. Т.3.
VБердяев Н. Христос и мир / Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде). 1907-1917. История в материалах и документах в трех томах. М., «Русский путь», 2009. Т.1.
VI арх. Антоний (Храповицкий). Догмат Искупления. Богословский вестник, 1917. Т.2. №№8-9.