глава из книги «От Просвещения к революции»
Эрих Фогелен
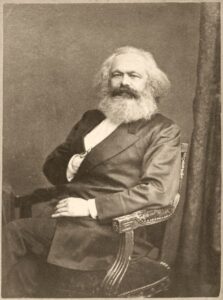
Чтобы быть успешной, идея должна не только исходить из обоснованной критики настоящего состояния западного общества. Такая идея сама должна быть частью кризиса. Идея заразила больное общество, потому что сама была проявлением глубинной духовной болезни, и притом в превосходной степени. Поэтому сейчас мы обратимся к генезису этой идеи и к природе болезни, ее породившей.
Проще всего будет постичь болезнь марксизма через анализ одного из основных симптомов, который известен под именем “диалектического материализма“. Диалектика материи – это намеренное извращение гегелевской диалектики идеи. Такое извращение типично для поздних периодов распадающейся цивилизации. Впервые мы встречаемся с ним в эллинистической софистической политике, и оно уверенно возвращается в эпоху Просвещения.
Случай Маркса очень похож на случай Бакунина, и сам по себе не заслуживал бы отдельного анализа. Если мы уделяем ему особое внимание, то лишь признавая политический вес марксистского движения. Это также уступка современному печальному состоянию политической науки и политической дискуссии вообще. Диалектический материализм получил широкое общественное признание под более привычным именем “исторического материализма”, и даже в еще большей мере – в виде респектабельного “экономического” истолкования политики и истории. В этом последнем качестве диалектика материи получила признание не только среди марксистов, но и в широком кругу современных интеллектуалов, которые усвоили психоанализ. Сегодня мы ежедневно сталкиваемся с утверждениями, что никто не имеет права говорить о политике, если он не понял и не научился применять глубокие прозрения Маркса. Философский дилетантизм, а иногда и прямая глупость упомянутых теорий отнюдь не стали препятствием для их влияния на массы. Эта ситуация послужит нам оправданием настоящего анализа марксистской диалектики.
Термин “диалектический материализм” представляет собой проблему, поскольку противоречит сам себе. Как бы мы ни определяли диалектику, она является постижимым движением идей. Этот термин может прилагаться не только к процессам сознания, но и к другим областям бытия, и в крайнем случае может использоваться как принцип для гностического истолкования мира как целого, но только при том условии, что действительность познаваема, поскольку сама является проявлением идеи. Гегель мог диалектически истолковывать историю, потому что он полагал, что смысл воплощен в истории. Если же реальность уже не воспринимается как воплощение логоса, то говорить о диалектике реальности становится бессмысленным. Хотя “диалектический материализм” противоречив сам в себе, мы можем установить, каким образом мысль пришла к этой бессмысленной формуле. Мы не можем сразу отвергнуть проблему, как несущественную, а вынуждены вникнуть в ее истоки. В качестве социологического примечания отметим, что бессмысленность формулы никогда не беспокоила марксистов и не помешала “диамату” стать одним из священных символов коммунистической доктрины.
Маркс дал наиболее зрелую формулировку своей теории диалектики в послесловии ко второму изданию “Капитала” в 1873 г. Он пишет: Мой диалектический метод по своей основе не только отличен от гегелевского, но является его прямой противоположностью. Когда в первом издании “Капитала” Маркс провозглашал себя учеником великого мыслителя, то делал это в пику тем посредственностям, которые третировали Гегеля как “мертвую собаку”. В противовес этим эпигонам он хотел подчеркнуть, что Гегель все-таки был первым мыслителем, который дал всеобъемлющее и сознательное изображение всеобщих форм движения. Тем не менее, для Гегеля процесс мышления, который он превращает даже под именем идеи в самостоятельный субъект, есть демиург действительного, которое составляет лишь его внешнее проявление. У меня же, наоборот, идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней. Далее Маркс различает между “мистифицированной” и “рациональной” формами диалектики. В своей мистифицированной, гегелевской, форме диалектика прославляет существующий порядок. В своей рациональной, марксистской, форме диалектика внушает буржуазии только злобу и ужас, так как в позитивное понимание существующего диалектика включает в то же время понимание его отрицания, его необходимой гибели. Рациональная диалектика рассматривает в движении каждую осуществленную форму… она ни перед чем не преклоняется и по самому существу своему критична и революционна.
Этот пассаж короток, но из него вытекают важные выводы. Прежде всего, мы видим, что марксово стремление “поставить Гегеля с головы на ноги”, основано на фундаментально ложном понимании метафизики Гегеля. Для Гегеля, конечно, Идея не является демиургом в том реальном смысле, который ей приписывает Маркс, то есть в эмпирической реальности. Идея является демиургом реальности только в той мере, в какой реальность есть откровение Идеи. Проще говоря, для Гегеля эмпирическая реальность содержит очень многое, что вовсе не является проявлением Идеи. Проблема Идеи вообще возникает только потому, что эмпирическая реальность и реальность Идеи не совпадают друг с другом. Гегель был философом, и его занимала основная философская проблема, а именно, природа реальности. Эмпирическая реальность – это либо беспорядочный поток событий (что неверно), либо в ней есть порядок. Если есть порядок, то он становится неизбежно проблемой для философа, который должен установить источник этого порядка и источник тех элементов, которые в порядок не вписываются. Следовательно, Маркс некорректен, когда пишет, что его рациональная диалектика ставит гегелевскую диалектику на ноги. Прежде чем совершить свой переворот, Маркс сделал одну роковую ошибку: он устранил гегелевскую проблему реальности. И поскольку только ответ на эту проблему (диалектика Идеи) был чисто гегелевским, а сама проблема является общефилософской, то получается, что Маркс устранил философское рассмотрение реальности как таковое. Позиция Маркса не то что антигегелевская, она антифилософская. Маркс не ставит гегелевскую диалектику на ноги. Он отказывается теоретизировать вообще.
Неизбежно возникает вопрос: понимал ли Маркс, что он делает? Как можно теоретизировать, подобно Марксу в его многотомных сочинениях, и при этом обходиться без теории? Вопросы острые и нуждаются в развернутых ответах. Попробуем приблизиться к пониманию первого вопроса: об искренности Маркса и о его вменяемости.
В цитируемом выше послесловии Маркс отсылает читателя к своему критическому исследованию гегелевской диалектики, которое он написал почти за тридцать лет до этого. Если мы откроем эту раннюю работу (К критике гегелевской философии права, 1843 г.), то увидим, что Маркс превосходно понимал гегелевскую проблему реальности, и все-таки предпочел ее игнорировать. В этом сочинении Маркс критиковал гегелевское понимание идеи и реальности не за то, что они некритически сформулированы или непоследовательно употребляются, а за то, что они не согласуются с марксовым пониманием реальности. Поскольку реальность Маркса – это заведомо не реальность Гегеля, то нас не удивит, что Марксу удается “убедительно” доказать, что гегелевская теория политической реальности во всех пунктах противоречит его собственной. Нас может удивить только то, что Маркс счел такую демонстрацию отличий опровержением философии Гегеля. Это было бы опровержением, если бы Маркс критически обосновал свою собственную концепцию реальности. В этом случае демонстрация несогласия означала бы, что концепции Гегеля несостоятельны по стандартам Маркса. Однако Маркс никогда и не пытался критически обосновать свою теорию реальности. Как формулируют это публикаторы ранних произведений Маркса: Он по умолчанию исходит из принципиально антифилософской позиции, и обоснование этой позиции им просто предполагается. Маркс критикует, исходя из простого, не обсуждаемого нигде прямо, отрицания философской позиции как таковой. Решение философской проблемы о природе действительности упраздняется через отсылку к обыденному выражению “реальность“ (S. Landshut and J.P. Mayer, introduction (Karl Marx, Der Historische Materialismus [Leipzig, 1932], vol. I), p. xxii).
Такие приемы критики появляются впервые у Маркса уже в его диссертации “Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура” (1841). Маркс выражает здесь свои претензии к философии таким образом: В обыденном мышлении всегда оказываются налицо готовые предикаты, которые оно отделяет от субъекта. Все философы делали из самих предикатов субъекты. Маркс правильно отмечает, что все философы “суются” в дела реальности. Они не хотят оставить ее в покое и принять порядок как приемлемое непроблематическое следствие реального беспорядка, каким он представляется обычному человеку. Вместо того чтобы оставить сущность в ее уютном месте в качестве предиката реальности, у философов есть “отвратительная” привычка вытаскивать сущность наружу и делать ее субъектом. Итак, мы можем сказать, что Маркс вполне сознавал, что, нападая на Гегеля, он нападает на философию.
Логофобия
Эта процедура вызывает замешательство. На вопрос о том, что был ли Маркс неспособен понять проблему Гегеля, следует ответить отрицательно: Маркс понимал Гегеля прекрасно. С какой же тогда целью он предпринял развернутый комментарий к гегелевской “Философии права”, которая не доказала ровным счетом ничего, кроме того, что мировоззрение критического философа не совпадает с докритической, дофилософской позицией среднего человека? Может быть, Маркс был интеллектуально нечестен, когда занимался этим странным сопоставлением, и при этом думал, что опровергает Гегеля? Может быть, он намеренно искажал позицию Гегеля, когда измерял гегелевскую концепцию реальности – своей собственной? Трудно уверенно ответить на эти вопросы. Та же неуверенность хорошо видна у издателей Маркса: Если можно так выразиться, Маркс как бы намеренно не понимал Гегеля. Они не решаются сказать, что Маркс – интеллектуальный обманщик, но допускают, что разгадку следует искать где-то в этом направлении.
Как бы ни было привлекательно это предположение, но мы не можем ему последовать. Вся обстановка, действительно, указывает на интеллектуальную нечестность, но, что ни говори, Маркс не был просто обманщиком. И все равно наше понимание его приемов наталкивается на затруднения. На уровне рационального рассуждения мы зашли в тупик. Если мы хотим исследовать проблему дальше, то будем вынуждены перенести проблему в область пневмопатологии, то есть духовной смерти. Маркс был духовно болен, и мы установили самый яркий симптом его болезни: боязнь критических концепций и философии в целом. Маркс отказывается оперировать чем-либо кроме докритических, неаналитических концепций. Более глубокие причины этого мы рассмотрим ниже (См.: Маркс: рождение гностического социализма). Сейчас мы охарактеризуем этот симптом, и поскольку терминология в области изучения духовной смерти не разработана, мы предлагаем для этого симптома термин “логофобия”.
Мы можем даже несколько расширить значение термина “логофобия”, т.е. боязни критических концепций. Здесь мы последуем Энгельсу, который в “Антидюринге” удачно раскрывает антифилософскую позицию Маркса.
Энгельс рассуждает о новой материалистической науке XIX в.: “современный материализм” видит в истории эволюцию человечества и стремится обнаружить законы этой эволюции. Материализм отвергает статическое представление о природе, которого еще придерживались Ньютон и Линней, и рассматривает всю природу также как процесс с постижимыми законами. Применительно к истории и природе “современный материализм” является по существу диалектическим и не нуждается больше ни в какой философии, стоящей над прочими науками. Для Энгельса это ключевое положение: когда наука занята открытием законов процесса и эволюции, философия становится излишней. Почему достигается именно этот интересный результат, Энгельс в общем не объясняет. Он настаивает: Как только перед каждой отдельной наукой ставится требование выяснить свое место во всеобщей связи вещей и знаний о вещах, какая-либо особая наука об этой всеобщей связи становится излишней. Все, что остается от философии, какой мы ее знаем, это учение о мышлении и его законах — формальная логика и диалектика. Все остальное входит в положительную науку о природе и истории.
Эти утверждения вызывают буквально бесконечный поток вопросов. Почему философия становится излишней, если науки признают эволюционный характер реальности? Почему, например, философия в эпоху Дарвина менее нужна, нежели в эпоху Линнея? Может быть, старую философию отменила какая-то новая философия реальности? Но в таком случае мы бы имели новую философию, а не никакой. Или, возможно, ненужным делается философ, а каждый ученый сам по себе занимается философствованием? Но не странно ли такой социологический сдвиг называть упразднением философии? Или Энгельс и подразумевает под именем науки – философию?
Надо сказать, что бесполезно подвергать критическому анализу такую смесь, какую представляют собой некритические высказывания Энгельса. Мы не поймем эти высказывания Энгельса, пока не увидим в них симптомы духовной болезни. В качестве таковых симптомов эти высказывания могут нам очень пригодиться, потому что в них представлена логофобия в высочайшей концентрации: неприкрыто отчаянный страх и ненависть к философии. Мы даже можем выделить особый предмет этого страха и ненависти: это упомянутая Энгельсом “всеобщая связь вещей и знаний о вещах”. Энгельс, как и Маркс, страшится, что критический анализ концепций может привести к признанию этой “всеобщей связи” или “всеобщего контекста”, то есть порядка бытия, или даже космического порядка, которому окажется подчинено существование Маркса и Энгельса. Если пользоваться языком Маркса: всеобщий контекст не должен существовать как автономный субъект, потому что тогда Маркс и Энгельс окажутся его несущественными предикатами. Если такой контекст допустим, то только как предикат автономных субъектов Маркса и Энгельса, не иначе.
Так наш анализ приблизил нас к глубинному уровню марксистской болезни, то есть к восстанию против Бога. Эта связь сформулирована кратко Лениным в статье о Марксе, когда он говорит: Маркс решительно отвергал идеализм, всегда связанный так или иначе с религией. Затем Ленин цитирует Энгельса о Фейербахе, где тот характеризует идеалистов как людей, которые провозглашают, что дух существует прежде природы, и тем самым подразумевают, что мир был сотворен, тогда как материалисты считают природу первичной. Ленин добавляет, что всякое иное употребление понятий идеализма и материализма ведет лишь к путанице. Здесь становится очевидным смысл логофобии. Это не боязнь какой-либо конкретной критической концепции – гегелевской идеи, например – это, скорее, боязнь критического анализа вообще. Если бы основатели марксизма в чем-либо подчинились критическому суждению, то это могло бы привести к признанию осмысленного порядка бытия, а это для них совершенно недопустимо. Ведь признание такого порядка могло бы разоблачить революционную идею Маркса – идею установления царства свободы и революционного изменения человеческой природы – как кощунственную и бесполезную бессмыслицу. Таковой бессмыслицей марксизм, впрочем, и является.
Маркс отказывается существовать в мире рационального рассуждения, и он устраняет критические концепции из своих доказательств. Это значит, что мы вынуждены сначала продвинуться в понимании образов, которые Маркс использует в своих трудах. Только после этого мы придет к заключениям о содержании диалектики Маркса.
Маркс и Энгельс создали для себя особый литературный прием: как только в их сочинении наступает критический момент, где требуется окончательная ясность, их рассуждение расцветает метафорическими образами, и этот иносказательный язык связывает между собой термины с неопределенным содержанием. Возьмем, к примеру, приведенную выше цитату из послесловия к “Капиталу”: У меня идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней. Предложение звучит прекрасно и оставляет живое впечатление у читателя. Его можно было бы считать блестящим риторическим приемом, когда иносказательно излагается то, что с критической основательностью изложено где-то в другом месте. Беда в том, что во всем собрании сочинений Маркса мы нигде найдем критического осмысления этой метафоры. Эта метафора – всё, что у нас есть. Мы имеем “идеальное” и “материальное”, но мы не знаем, что эти термины означают у Маркса. Нам говорят, что идеальное есть то же самое, что материальное, но преобразованное и пересаженное. Мы вынуждены сами догадываться, что в этом случае значит “пересаживать” и “преобразовывать”. Наконец, мы узнаем, что место, где происходит этот таинственный процесс, есть “человеческая голова”, и мы недоумеваем, говорит ли Маркс о чудесах физиологии мозга или об умственной деятельности, говорит ли он о познавательных актах какого-то конкретного человека (себя, например) или о космическом процессе внутри коллективного “черепа” человечества. И несмотря на все это, человек, который попался на крючок риторики Маркса, остается с впечатлением встречи с интеллектуальным гигантом, который совершает такие чудесные метафорические трюки как “переворот диалектики” с постановкой ее “на ноги”, в то время как до него она стояла “на голове”.
Природа такого способа выражения станет еще яснее, если мы рассмотрим не одну фразу, а целый абзац, в котором мысль Маркса движется от более конкретных проблем к конечным общим формулировкам. В качестве примера обратимся к знаменитому пассажу из “Критики политической экономии”, который считается наиболее авторитетной формулировкой материалистической интерпретации истории у Маркса. Период начинается так: В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения — производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Здесь мы находимся, в целом, на твердой почве. Все необходимые определения используемых терминов Маркс дает в других местах, в первом томе “Капитала”, например. Начало следующего предложения – это определение: Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества. У нас еще остается земля под ногами. Затем Маркс продолжает: экономическая структура общества – это реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Тут у нас начинают возникать вопросы: почему экономическая структура – это “реальный базис”, а остальные структуры общества, политические, например, – это надстройка? Что такое “общественная форма сознания”, и как это происходит, что она “соответствует” “реальному базису”? Отчасти наши вопросы получают ответы в следующем предложении: Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Этот ответ показывает, что мы уже скатились к непроницаемым для разума метафорам, но, с другой стороны, нам обосновали, что экономическая структура – это базис, а все остальные структуры – надстройка, и обосновали это тем, что базис “обусловливает” все остальное. Но что значит “обусловливает”? Этот термин не проясняет и даваемая выше Марксом формулировка, что все политические формы коренятся в материальных жизненных отношениях. И вот, в тот момент, когда требуется критическое прояснение вопроса, Маркс завершает свою мысль свойственным ему образом: Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. Так мы пришли к фундаментальным терминам: “бытие”, “общественное бытие” и “сознание”, и отношения между ними уже не “обуславливают”, а “определяют”.
Этот классический пассаж из Маркса прекрасно иллюстрирует скольжение от конкретных проблем экономики и социологии к напыщенной болтовне в некритических образах. И мы вновь отметим, что завершающая фраза, хотя и лишена теоретического смысла, полна революционного пафоса и прямо принуждает неподготовленного читателя думать, что найдено решение всех социальных проблем. Подчеркнем при этом, что в сочинениях Маркса нет ничего, чтобы позволило нам установить точный смысл таких терминов как “бытие” и “сознание”. Великая формула – не предмет для дискуссий, а властный инструмент, который обрывает всякую дискуссию в принципе. Теперь наш читатель может более ясно понять, почему невозможен критический анализ учения Маркса. Скажем грубо: марксистская теория исторического материализма не существует.
Псевдологическое рассуждение
Даже если в так называемой “теории” исторического материализма нет теоретического содержания, что-то в ней несомненно есть. То, что говорит Маркс – это не теория, но и не непостижимый нонсенс. Мы должны вернуться к нашему парадоксальному вопросу: как можно теоретизировать без теории? Здесь мы сталкиваемся с определенными терминологическими трудностями, поскольку духовная болезнь никогда не становилась предметом систематического философского исследования и для ее описания не выработан подходящий словарь. Чтобы говорить о теоретизировании в нетеоретической среде, которую мы анализировали выше, мы предлагаем ввести термин “псевдологическое рассуждение”. В значение этого термина войдут следующие элементы: 1) рассуждение такого рода есть теория лишь по видимости, но не в реальности, 2) мыслитель, который предается таким рассуждениям, считает их подлинным теоретизированием, 3) исторически предполагается существование подлинной философии смысла, предмет которой извращается в псевдологии.
Вооруженные этим новым термином, мы можем проследить еще одну стадию марксистского извращения, то есть псевдологическую трансформацию философии Гегеля. Можно упустить эту важную стадию, если слепо полагаться на такие метафоры Маркса как “переворачивание диалектики” и “постановка ее на ноги”. Даже в перевернутом виде гегелевский исторический гнозис все еще присутствует во всей своей полноте, включая движение идеи. Маркс, как и Гегель, разрабатывает философию идеи. Здесь даже нельзя сказать, что он перевернул отношение между идеей и реальностью, потому что ни его “материальное” – это не реальность Гегеля, ни его “идеальное” – не идея Гегеля. Такое ошибочное впечатление, конечно, было порождено метафорами Маркса, но мы не должны все-таки вульгарно и неправильно понимать исторический материализм как учение о том, что люди наделены даром находить обоснования для достижения своих материальных (экономических и политических) интересов. Если мы согласимся, что эта “мудрость” и есть сущность марксизма и марксистского отрицания сути гегелевской диалектики, то станет непонятным ажиотаж вокруг марксизма и его революционная действенность. Маркс был не настолько прост. И Гегель также был знаком с такими элементарными психологическими механизмами, и он даже не отрицал их. В том-то и дело, что Маркс сохранил гегелевский гнозис, и для него история – все еще реализация царства свободы.
Псевдологическая трансформация гегелевского гнозиса лучше всего может быть изучена на примере более понятного Энгельса. Чтобы преобразить этот гнозис, Энгельс сперва должен признать его существование. Он хвалит Гегеля за то, что он занимался исследованием постижимого порядка в истории. В его системе история это более не бессмысленная череда актов насилия, о которых лучше бы забыть. Нет, у Гегеля история – это процесс эволюции человечества, и теперь ставится задача показать порядок за видимыми случайностями. Хотя Гегель не смог достичь этой цели, его “эпохальной заслугой” является само указание такой цели. Его система потерпела неудачу, потому что страдала от внутреннего противоречия. С одной стороны, ее существенной предпосылкой было воззрение на человеческую историю как на процесс развития, который по самой своей природе не может найти умственного завершения в открытии так называемой абсолютной истины. Но с другой стороны, его система претендует быть именно завершением этой абсолютной истины. Всеобъемлющая, раз навсегда законченная система познания природы и истории противоречит основным законам диалектического мышления, но это, однако, отнюдь не исключает, а, напротив, предполагает, что систематическое познание всего внешнего мира может делать гигантские успехи с каждым поколением (Антидюринг).
Весь этот фрагмент является превосходным образцом интеллектуального беспорядка, внутри которого только и может процветать псевдологическое рассуждение. Энгельс правильно нападает на Гегеля за его попытку понять историю как развертывание Идеи, завершившееся в современности. Общий смысл истории можно понимать только как трансцендентальную, а не посюстороннюю драму, которая завершается внутри эмпирического времени. Такова ошибка всякого гнозиса, который неизбежно сталкивается с той проблемой, что история продолжается. Увидев эту теоретическую ошибку и эмпирическую неудачу гностического понимания истории, было бы правильно придти к мысли, что эмпирический ход истории нельзя толковать как развертывание Идеи.
Но Энгельс доказывает вовсе не это. Прежде всего, он неправильно понимает Гегеля, когда говорит, что исторический процесс по самой своей природе не может найти умственного завершения в открытии абсолютной истины. Напротив, это единственный способ найти такое умственное завершение, но с тем уточнением, что абсолютная Истина должна оставаться трансцендентной. Порок гнозиса и состоит в имманентизации трансцендентной Истины. Так что, рассуждая правильно, Энгельс должен был бы сказать, что имманентистское умственное завершение не останавливает поток истории, и поэтому не должно использоваться для его интерпретации. Что же достигает Энгельс своим неправильным толкованием? Вторая часть его рассуждения показывает это: у него эмпирическая реальность обладает смыслом, как если бы она была развертыванием идеи, но без смыслового завершения. Теоретически это, конечно, бессмыслица, потому что смысл не будет смыслом, если не достигнет своего завершения, хотя бы в воображении и уповании. Но Энгельс к этому и стремился: гегелевская реальность развертывающейся Идеи оказывается упразднена, и эмпирическая реальность приобрела смысл, как если бы была Идеей. Отсюда нам будет легче понять глубинный мотив “как бы намеренного” ложного толкования гегелевской проблемы реальности у раннего Маркса: заменяя эмпирической реальностью реальность Идеи, Маркс и Энгельс получили возможность внедрить смысл Идеи в реальность и избежать проблемы метафизики Идеи.
Все это рассуждение Энгельса увенчано шедевром в виде предположения, что всеобъемлющая, раз навсегда законченная система познания противоречит основным законам диалектического мышления. Через смешение эмпирической реальности и гегелевской реальности Идеи диалектика идеи теперь вместилась в эмпирическую реальность. Поскольку эмпирическая реальность – это свободный поток, диалектика тоже должна стать свободной и открытой. Философ остается стоять как мальчишка, одержимый смешной фантазией, будто диалектика должна иметь завершенный смысл. Мы, наконец, дошли до крайнего предела того беспорядка, который породил внутреннее противоречие “диалектического материализма”. В то же время, этот беспорядок понимает (неправильно) систему метафизики как систему эмпирического знания. И Энгельс, вполне последовательный в своем создании беспорядка, завершает свое рассуждение уверением, что устранение метафизической завершенности не делает систематическое познание в эмпирическом смысле невозможным. Напротив, эта система будет делать гигантские успехи с каждым поколением.
В этом месте читатель мог бы спросить, а не доказал ли Энгельс слишком много, не уничтожает ли его рассуждение свою собственную цель? Он, разумеется, избавился от Гегеля и метафизики, но он также, похоже, пришел к простой идее о прогрессе науки, которая в свое время упразднит и саму марксистскую систему. Энгельс к этому не стремился, но читатель вообще может не беспокоиться. В том беспорядке, в котором движется Энгельс, трудности такого рода легко преодолимы: о них просто забывают. Когда Энгельс решает продолжить свою мысль примерно сто страниц спустя, мы оказываемся внутри псевдологической спекуляции о диалектике эмпирической реальности. Ход истории есть реализация свободы. Гегель первым правильно понял соотношение между свободой и необходимостью. Он знал, что свобода есть познание необходимости. Слепа необходимость, лишь поскольку она не понята. Так значит, история все-таки есть реализация логоса в гегелевском смысле? Но Энгельс не возвращается к метафизике. Его логос – это познание законов природы и основанная на этом знании возможность планомерно заставлять законы природы действовать для определенных целей. Под законами природы подразумеваются не только внешние, но и законы, управляющие телесным и духовным бытием самого человека. Свобода воли означает, следовательно, не что иное, как способность принимать решения со знанием дела. Эта формула сводит логос к рациональному соотношению целей и средств, и она оставляет открытым вопрос о том, что такое разум, и о самих целях. Проблема с целями решается через учение о слиянии свободы и необходимости: Чем свободнее суждение человека по отношению к определенному вопросу, с тем большей необходимостью будет определяться содержание этого суждения. Риск любого решения состоит в отсутствии знаний. Свобода выбора есть собственно несвобода, поскольку в своей неуверенности человек подчиняется объекту, которым он должен овладеть. Свобода, следовательно, состоит в основанном на познании необходимостей природы господстве над нами самими и над внешней природой. Свобода человека увеличивается с все новыми технологическими открытиями. На пороге истории человечества стоит открытие метода добывания огня трением, в конце эволюции – паровая машина, великая представительница производительных сил, при помощи которых только и становится возможным создать такое общество, где не будет больше никаких классовых различий, никаких забот о средствах индивидуального существования. Паровая машина – это обещание действительной человеческой свободы, жизни в гармонии с познанными законами природы. Воплощение логоса стало прогрессом практических знаний, и в конце концов поглотило и растворило в себе тайну человеческого существования. Искупитель Христос оказывается заменен паровой машиной, как предвестницей тысячелетнего царства.
Рассуждение Энгельса особенно интересно, поскольку полное отсутствие у него интеллектуальной дисциплины позволяет ему связывать в своем воображении разные направления западного распада, и таким образом показывать их внутреннюю связь
1) Давайте сначала проясним тему псевдологического рассуждения. Атака на завершенность гегелевской системы оказалась, в конце концов, атакой на философию как таковую. Когда Энгельс погрузил свою диалектику в эмпирическую реальность, он сам пришел к некоторой завершенности. Эмпирический поток истории не движется неопределенно к неизвестному будущему: он движется к своей цели в виде совпадения свободы и необходимости. Так что, что касается “умственного завершения”, гнозис Маркса-Энгельса отличается от гегелевского только тем, что указывает это умственное завершение в будущем, что оставляет место для их революционного переворота.
2) Из Гегеля взята сама форма “умственного завершения”, но не его суть (развитие Логоса), а прагматический интеллект становится носителем этого движения. В следовании своему псевдологическому рассуждению, Энгельс демонстрирует поразительную последовательность. Маркс решает проблему свободы с помощью своей идеи о революционном “скачке” в новую природу человека. Эта мысль Маркса присутствует и в блуждающей мысли Энгельса, но у Энгельса она появляется в другом контексте. Энгельс с полной серьезностью предпринимает попытку решить проблему человеческого существования на прагматическом уровне. В этом отношении он доводит до логического завершения некоторые тенденции, которые мы встречали у Д’Аламбера и Дидро. Жизнь духа и умозрительная жизнь не просто отталкиваются на второй план, но Энгельс их определенно устраняет. Человек будет свободен, когда достигнет совершенного знания о внешнем мире и когда исчезнет проблема цели, с порождаемой ею нерешительностью. Вполне последовательно Энгельс достигает такого результата, сведя все знание человека к познанию внешнего мира. Духовный опыт устраняется как автономный источник порядка и полностью поглощается “внешним”, эмпирическим знанием. Ленин, который опирался чаще на Энгельса, нежели на Маркса, сознавал важность этого положения и в энциклопедической статье о Марксе он хвалит Энгельса за это превращение непознанной, но познаваемой кантовской “вещи в себе” в «вещь для нас», а сущности вещей – в «явления». Разрушение сущности человека становится здесь политической программой, что является конечным следствием из “энциклопедизма” эпохи Просвещения.
3) Несмотря на умственное завершение, которое Энгельс дает своему псевдологическому рассуждению, он не отказывает себе в удовольствии и предвкушает открытое пространство бесконечного прогресса. Хотя конечная цель нам известна, мы имеем еще и развитие науки гигантскими шагами из поколения в поколение. Мы можем даже указать точный источник этой уступки Энгельса. В формуле, что свобода состоит во власти человека над собой и над природой, мы можем узнать формулу, которой Эмиль Литтре определял полноту цивилизации. В коктейле Маркса-Энгельса содержится также большая доза Сен-Симона и Конта, и в частности, мы находим у Энгельса склонность к либерально-интеллектуальному типу позитивизма, представителями которого являются Милль и Литтре. Поэтому мы не должны пренебрегать этими источниками марксизма, равно как и наследием эпохи Просвещения, которое ярко видно не только у Энгельса, но и у Ленина в “Материализме и эмпириокритицизме”. Как мы объясняли в обсуждении позитивизма, тот, кто начал неконтролируемое разрушение, не может остановить это разрушение, когда ему это будет удобно: лавина мчится дальше вопреки его желанию.
Читатель может обнаружить, что Энгельс, несмотря на свой псевдологический гнозис, слишком сильно размыл свое “умственное завершение”, допустив безграничный эмпирический прогресс. Мы знаем, чем все кончится – последней революцией, но пока она не наступит, будет продолжаться неопределенный период нереволюционного технологического прогресса. И опять же читатель может не беспокоиться: Энгельс всегда может заболтать эту проблему в своем пространном сочинении. Хотя своим псевдологическим рассуждением он растворил существование человека в системе прагматического знания, Энгельс считаем возможным озаботиться и проблемами этики. Он говорит о различных моральных системах, которые возникли на основе различных экономических систем. У нас есть христианско-феодальная система нравственности, современная буржуазная система и пролетарская мораль будущего. В современном обществе существуют все эти три учения о морали, и их сосуществование доказывает, что абсолютная этика невозможна: Мы поэтому отвергаем всякую попытку навязать нам какую бы то ни было моральную догматику в качестве вечного, окончательного, отныне неизменного нравственного закона, под тем предлогом, что и мир морали тоже имеет свои непреходящие принципы, стоящие выше истории и национальных различий.
Этот выпад, казалось бы, совершенно упраздняет моральную истину. Хотя Энгельс не может усмотреть абсолютную моральную истину, у него все-таки есть критерии для того, чтобы выбрать лучшую из моральных систем. Эти критерии он извлекает из известной ему “абсолютной окончательности”, которая измеряет моральные системы в зависимости от их исторической выживаемости. Лучше та система, в которой больше элементов, обещающих “долговечное существование”, и это пролетарская мораль, потому что она в настоящем представляет интересы революции от настоящего к будущему. Но даже пролетарская мораль несовершенна, потому что отражает классовое положение пролетариата. Только после революции, когда исчезнут все классы, и в том числе пролетариат, станет возможной действительно человеческая мораль, когда противоположность классов будет не только преодолена, но и забыта в жизненной практике. Мы находимся на пороге социальной революции и в этой ситуации особенно глупо защищать ту или другую систему классовой морали, потому что все они обречены и будут сметены завтра “действительно человеческой моралью”, которая родится в революции. Поэтому, наслаждаясь огромными перспективами прогресса, мы находимся на грани революции, которая завершит прогресс, осуществив его цель. В этой фазе своей мысли Энгельс вновь вспоминает о революционном заряде своего гнозиса. Он также не без удовольствия соскальзывает к той самой морали, которую он объявил излишней в своем псевдологическом рассуждении. От Маркса его отличает только то, что он совсем не опасается, что после революции перемена сердца так может и не произойти.
Переворот
В разборе собственно “переворота” мы можем быть кратки. Наш анализ показал, что так называемый переворот Марксом диалектики Гегеля это весьма сложная операция. Сначала мы выделили антифилософскую атаку, которая приводит к утверждению эмпирической прагматической реальности в качестве объекта для дальнейшего исследования, а наряду с этим и специфического речевого средства его выражения. Эта первая фаза – не переворот диалектики, а логофобическое разрушение философских проблем вообще. Внутри этого нового способа выражения ничто не перевернуто, а гегелевский гнозис перенесен целиком в псевдологическое рассуждение. Переворот в техническом смысле происходит лишь на третьем этапе, когда результат двух первых понимается как истолкование всей структуры бытия, начиная с основы онтологической иерархии. Об этой последней фазе мы скажем лишь кратко, поскольку и сам Маркс о ней почти ничего не говорит, кроме того, что он собственно к ней и стремился.
Исполнение общего плана Маркса должно было бы включить в себя и философию культуры. Во-первых, он должен был бы объяснить, какова природа культурных явлений. Во-вторых, он должен был бы показать, что эти явления можно истолковать исходя из того, что он считает основой бытия, например, материи, и наконец, он должен был бы объяснить, что такое основа бытия. Из всего этого у Маркса есть только разобранная нами выше формула о том, что сознание обусловлено существованием.
Кроме этой принципиальной формулировки у нас есть несколько упоминаний о культуре, которую он обозначает термином “идеология”. Самые важные находятся в “Критике политической экономии”. Маркс говорит о социальных революциях, которые начинаются в экономике и вызывают соответствующую революцию в “надстройке”. При рассмотрении таких переворотов необходимо всегда отличать материальный, с естественно-научной точностью констатируемый переворот в экономических условиях производства — от юридических, политических, религиозных, художественных или философских, короче — от идеологических форм, в которых люди осознают этот конфликт и борются за его разрешение. Насколько можно понять это предложение, Маркс предполагает, что содержание культуры – это борьба за разрешение конфликта в экономической сфере. Об этой мысли нам нечего сказать, кроме того, что это не так.
Что же касается основы бытия, то наиболее интересное высказывание мы находим в примечаниях к “Капиталу”, где говорится о проблеме технологии. Маркс сокрушается здесь о том, что нет критической истории технологии. История производительных органов человека заслуживает не меньше того внимания, которое Дарвин посвятил истории растений и животных, потому что человеческие органы являются материальным базисом каждой особой общественной организации. Кроме того, такую историю написать было бы проще, чем историю растений и животных, так как, по выражению Вико, человеческая история тем отличается от истории природы, что первая сделана нами, вторая же не сделана нами. Технология вскрывает активное отношение человека к природе, непосредственный процесс производства его жизни, а вместе с тем и его общественных условий жизни и проистекающих из них духовных представлений. До сих пор примечание лишь излагает другими словами то же соотношение “бытие-сознание”, что и выше. Обращает внимание только странное появление Джамбатисто Вико в качестве одного из предков исторического материализма. Далее примечание приобретает полемический характер: Даже всякая история религии, абстрагирующаяся от этого материального базиса, — некритична. Конечно, много легче посредством анализа найти земное ядро туманных религиозных представлений, чем, наоборот, из данных отношений реальной жизни вывести соответствующие им религиозные формы. Последний метод есть единственно материалистический, а следовательно, единственно научный метод. Недостатки абстрактного естественнонаучного материализма, исключающего исторический процесс, обнаруживаются уже в абстрактных и идеологических представлениях его защитников, едва лишь они решаются выйти за пределы своей специальности. Здесь, насколько можно понять, Маркс критикует психологизирующую историю, которая объясняет религии через их “земные” мотивы”. От этого абстрактного материализма он отличает свой исторический материализм, единственный подлинно научный метод, который понимает религию как порожденную экономическими условиями. Эта формулировка проясняет намерения автора, но никак не приближает к осуществлению его программы.
В завершение процитируем Энгельса, который по крайней мере делает некий жест в сторону метафизической формулировки марксистского переворота. В “Антидюринге” Энгельс говорит: Единство мира состоит не в его бытии… Действительное единство мира состоит в его материальности, а эта последняя доказывается… длинным и трудным развитием философии и естествознания. Доброжелательно настроенный читатель может извлечь из этих слов ту “мудрость”, что исторический материализм, чтобы стать системой, не нуждается в теоретическом обосновании в принципе.
Таковы идеи, которые потрясли мир.
Перевод с английского с издания:
Eric Voegelin. From Enlightenment to Revolution. Durham: Duke University Press, 1975. PP. 255-272


